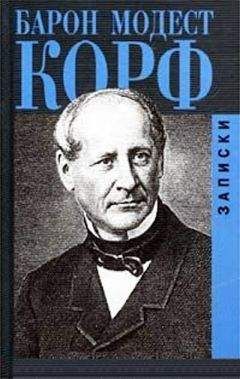Известно, что многие товары, которыми торгует Английский магазин, можно достать и в гостинодворских лавках, но всегда несколькими процентами ниже. Теперь, когда Английский магазин переложил свои цены на серебро с соответственным понижением, а гостинодворцы остались при прежних, обоюдные их цены сравнялись, и оттого все покупщики постепенно переходят от последних к первому, при уверенности за те же деньги получить товар без обману. Это непременно заставит гостинодворцев понизить и свои цены в прежнюю соразмерность, чтобы не лишиться всех покупателей, и говорят, в некоторых лавках к тому уже и приступили.
17 сентября. Государь воротился из Москвы в ночь с 15-го на 16-е, в Царское Село. Он перелетел в 35 часов — немногим дольше, чем можно бы сделать этот переезд по железной дороге. На дороге он обогнал передового своего фельдъегеря, за что, однако же, очень разгневался.
4 октября. Зимний дворец шалит, и предсказания о нем фаталистов сбываются. Излишняя поспешность в его возобновлении являет свои последствия: везде страшная сырость, и многое надобно опять снова переделывать; так, например, и прелестная Белая зала со своими золотыми колоннами, стоившая столько денег, совсем почернела. Между тем, на беду вздумали прошлым летом сделать разные капитальные переделки и в Аничковском дворце, где теперь тоже большая сырость. От этого царской фамилии решительно негде поместиться в Петербурге, и она по необходимости должна жить еще очень долго в Царском Селе.
Вчера пришло известие, что графа Толя на возвратном пути из Варшавы сюда на польской границе перед Юрбургом разбил паралич, от которого у него отнялась целая сторона. Примечательно, что по наступавшему постепенно онемению, он вперед предчувствовал этот удар и успел еще написать несколько строк государю. Сегодня поскакал к нему отсюда его сын. По дошедшим слухам говорят, что положение его если не совсем безнадежно, то по крайней мере очень опасно.
И ужасно то, что наше безлюдье примечается не только в гражданской администрации, но и в других частях управления. В военном ведомстве из людей значащих и играющих роль разве только корпусные командиры Муравьев (Николай), Нейдгардт и начальник штаба в Варшаве князь Горчаков выходят несколько из ряду обыкновенных; прочие корпусные командиры — или люди самые посредственные, или еще ниже посредственности, как в мирное, так и в военное время. Мне сказывал это Позен, который ближе их знает не только лично, но и по делам, и на мнение которого можно положиться.
Лучшие люди еще у нас в дипломатии; но посол наш во Франции, граф Пален, говорил мне на днях, что и там теперь представляется величайшее затруднение: лондонский наш посол граф Поццо ди-Борго, за семидесятилетний старец, до такой степени упал и упадает моральными силами, что ему невозможно долее оставаться на этом важном посту.
Наши заседания под председательством Голицына идут своим порядком ничуть не хуже, чем при Васильчикове, хотя первый почти нисколько не занимается делами, не тревожит меня и не отрывает от дела беспрестанными присылками, а ограничивается коротеньким словесным докладом перед самым присутствием. Собственных идей, собственного высшего соображения нет ни у того, ни у другого, и от того оба подвержены посторонним влияниям, но у Васильчикова эти влияния совершенно затемняют всякое личное суждение, а у Голицына более прозорливости и все-таки сколько-нибудь, но более деловой опытности! Вообще Голицын умнее Васильчикова, более его имеет такта, веса и достоинства; зато последний гораздо усерднее к делам, более берет к сердцу государственные интересы, более по-своему радеет об их охранении; но результаты в отношении к Совету почти одни и те же, и я был бы очень затруднен, если бы пришлось решать: кто из них как председатель полезнее? Зато как светский человек, как homme d’esprit, Голицын неоспоримо уже имеет все преимущества перед Васильчиковым. Невозможно быть милее первого, и с ним можно проводить часы не соскучась, даже с возрастающим интересом, тогда как с последним всякий материал к какому-нибудь разговору очень скоро истощается.
Голицын был всегда очень близок ко двору, начиная с камер-пажества во времена Екатерины, и помнит все придворные отношения и интриги за 40 лет, все анекдоты, все забавное, что случилось в это время, и — все это рассказывает с необыкновенным умением. Слушая его, воображаешь себе совершенно, что читаешь какие-нибудь болтливые, но острые и веселые французские мемуары. Истинно жаль, если он не диктует своих записок в этом роде, которые были бы драгоценным запасом юмора и соли; иначе с ним умрут все эти предания, вся живая традиция четырех царствований.
12 октября. Бухарский хан прислал в подарок государю слона, который на днях сюда прибыл вместе с двумя своими адъютантами, верблюдами. Государь осматривал этого слона в Царском Селе, в присутствии одной женщины, которая не знала государя и в первый раз в жизни видела слона.
— А что это, батюшка, за зверь? — спросила она.
— Слон.
Государь, которому понравилось и это незнание его особы, и этот вопрос, с умыслом продолжал разговор и, между прочим, спросил женщину, как она довольна величиной слона?
— Чудо, батюшка, поистине чудо: всякое дыхание да хвалит Господа.
Граф Толь, при первом письме своем, отправленном к государю в близком предчувствии смерти, доставил между прочим дневник, который при каждом его путешествии вели всегда всем его распоряжениям и приказаниям по его части. Адъютанту, который привез письмо и дневник, велено было вручить последний государю при первом известии о кончине Толя; но он понял иначе и отдал в одно время с письмом, а тут вышло довольно курьезное обстоятельство: в одном месте граф, заметив крайнюю ветхость одного дома шоссейной стражи, пишет, что непременно нужно, для предстоящего проезда государя, исправить его хоть сколько-нибудь по наружности.
13 октября. Государь чрезвычайно грустен, и русское сердце страждет за него и вместе с ним. Киселев, который уже с ним работал по возвращении из Москвы, говорит, что он все время сидел подперши лоб рукою и, рассказывая о положении императрицы, изъявлял глубокую свою горесть и малые надежды: «Что мне, что доктора говорят, будто бы у нее поменьше жар: я сам лучше всех вижу ее грустное положение». И при этом выступили у него две крупные слезы…
22 ноября. Васильчиков на днях объяснялся с государем по делу, бывшему в Комитете министров, о мерах к распространению в остзейских губерниях русского языка, и при этом зашла речь о привилегиях наших остзейцев — предмете, который, вместе со Сводом их местных законов, должен скоро подвергнуться окончательному рассмотрению. Васильчиков, хотя и русский в душе, однако русский благоразумный и потому большой защитник этих привилегий, освященных царским словом, и которых остзейское дворянство — всегда преданное нашему правительству — конечно, никогда не употребляло во зло.