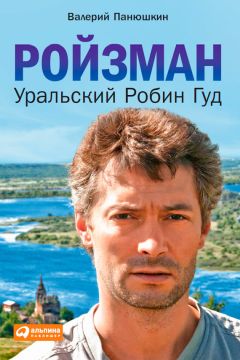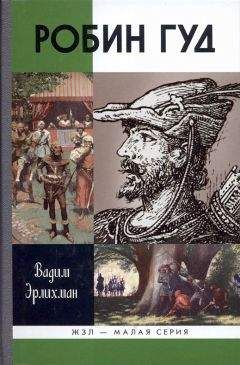Мы встретились утром в здании городского правительства, и он получил новенькое удостоверение кандидата в градоначальники. Потом мы вышли на улицу, и Ройзман окликнул трех проходивших мимо женщин лет шестидесяти:
– Здравствуйте, девушки!
И я подумал – вот сейчас оно начнется. Но женщины только заулыбались, поздоровались в ответ и прошли мимо. А Ройзман сказал:
– Понимаешь, Валера, женщины все, любого возраста любят, когда их называют девушками, – помолчал и добавил: – Но никогда нельзя окликать на улице женщину, если она идет одна. Вот если их несколько, и ты называешь их «девушки», им всегда нравится.
Потом мы пошли завтракать. Я едва впихнул в себя половину уральской порции каши, а Ройзман съел два завтрака и выпил два кофе – эспрессо и американо, – смешав их вместе.
Потом мы сели в машину, выполнили поворот направо из второго ряда, и стоявший на углу гаишник лениво махнул жезлом.
– Это я сгрубил, да, простите! – сказал Ройзман, опуская стекло.
А гаишник пожал ему руку и буркнул на уральском диалекте:
– Давно вас не видел-то.
И я подумал, что вот сейчас оно начнется. Но Ройзман достал несколько брошюрок с заднего сиденья и протянул гаишнику.
– Вот возьмите. Тут про все новые наркотики. Как называются, как выглядят. Как узнать, что ребенок колется. У вас есть дети? Прочтите и смотрите внимательно. И раздайте товарищам, у кого дети.
Гаишник взял брошюры, улыбнулся и махнул жезлом в том смысле, что можно ехать без всякого штрафа.
Потом мы прыгнули. Потом остановились купить несколько арбузов и дынь, а азербайджанский торговец подарил нам еще несколько в том смысле, что торгует тут бахчевыми культурами, а не героином.
Потом приехали в Быньги – большую старообрядческую деревню, посреди которой стоит несуразно большая для деревни церковь. Обшарпанное ее здание венчал сверкающий, только что отреставрированный купол со звездами.
Пружинистыми шагами, слишком легкими для пятидесятилетнего очень хорошо сложенного мужчины ростом под два метра и весом в сто килограммов, Ройзман поднялся по чугунным ступеням на чугунную паперть и вошел в храм, не перекрестив лба. В левом приделе был стол, уставленный простой домашней едой, за столом сидел немолодой священник в светлых брюках и легкой рубашке, а вокруг стола суетились три старухи. Ройзман конечно же приветствовал их словами «здравствуйте, девушки», и старухи в ответ заулыбались. А снаружи на улице остановился автобус паломников, и Ройзман спросил священника, можно ли провести для этих людей из автобуса экскурсию по храму. И я подумал, что вот оно сейчас начнется. Поп улыбнулся и кивнул.
Сначала Ройзман просто говорил, а люди просто слушали. В одно ухо влетало, в другое вылетало. Имена иконописцев, даты. Неприметные детали, которые служили мастерам вместо подписи или авторского клейма: один, например, на всех своих иконах писал елочки – даже и в Гефсиманском саду, другой обязательно писал пенные волны – даже и посреди Иудейской пустыни. Люди слушали, пока один из них, наконец, собрался с духом и произнес:
– Можно вам руку пожать?
И тут началось: они хотели пожать руку, сфотографироваться, постоять рядом, обнять. Но главное, они заглядывали Ройзману в глаза, как заглядывают дети, ожидая простых слов: «давай поиграем в прятки», «помоги-ка мне замесить тесто», «принеси-ка мне из мастерской долото». Ройзман фотографировался с ними, немного смущаясь, и, немного смущаясь, раздавал простые задания. Например, женщине, которая стояла с ним рядом, так, чтобы тыльная сторона ее ладони слегка касалась его руки.
– А вы пройдите по подъезду, расскажите соседям.
– Да все вас знают. Все вас поддерживают.
– А вы просто пройдите. Просто скажите, что Ройзман идет в мэры. А то, может, этого не знают.
– Как не знают? Ну, да, правда, по телевизору ведь не говорят. Пройду, конечно.
Эти люди, они столпились вокруг Ройзмана и были подобны птенцам, разевающим клювы и ожидающим корма. Каждый смотрел на Ройзмана и ждал от него какого-нибудь простого задания, которое хотя бы на несколько дней наполнило бы жизнь смыслом. И Ройзман раздавал задания: разнести по школам брошюры, прийти в Фонд, взять стикеры и раздать друзьям, записаться в волонтеры, поучаствовать через неделю в десятикилометровом кроссе по улицам Екатеринбурга.
В левом приделе тем временем мы со священником отцом Виктором пили чай, и батюшка рассказывал, как святой Николай-угодник много лет ждал, чтобы не кто-нибудь, а именно Евгений Ройзман с его страдальцами приехали сюда в Быньги восстанавливать храм. Батюшка так и сказал про молодых людей, которые здесь в реабилитационном центре у Ройзмана пытаются избавиться от наркомании, – страдальцы. А впрочем, говорил с улыбкой, и нельзя было понять, серьезен он или шутит, когда рассказывает о чудесном явлении Николая-угодника алтарнице Агриппине.
Этот храм Николая-угодника стоит в Быньгах двести лет. Никогда не закрывался. Храм не старообрядческий, но даже старообрядцы особо Николая-угодника почитают: принято думать, что это именно тот святой, который говорит царям правду. Дерзкий святой, уральский.
В советское время, когда церквей было мало, сюда в Быньги приезжали из Екатеринбурга, Тагила, Невьянска и со всех окрестностей. В праздники церковь бывала полна.
После перестройки церквей понаоткрывалось много, и быньговский храм опустел. Прохудилась крыша, осели алтарь и главный иконостас, огромные, окованные железом печи прогорели изнутри, только видимость была, что печи, – топить их было нельзя. Зимой батюшка служил в валенках и в овчинном тулупе под рясой. Летом макал тряпки в масляную краску и этими липкими тряпками латал кое-как дыры в куполах. А денег на ремонт не было, и областное начальство, сколько бы батюшка ни обращался, все как-то миновало Быньги. Иконы сырели, золотая резьба трескалась, фрески осыпались, разрушалась кладка. И вот однажды, вырвав решетку, в церковь забрался вор, украл кое-какую утварь и кое-какие иконы, включая Угодника Николая. Вор этот был наркоманом, он надеялся продать украденное, купить ханки, героина или методона – других наркотиков в то время на Урале не было.
Алтарница Агриппина плакала. Она была совсем старуха, сидела дома и плакала. Как вдруг в ее избе словно бы из воздуха соткался старец, погладил Агриппину по плечу и сказал: «Не плачь, Агриппинушка, все будет хорошо». В ту же ночь два невьянских милиционера наугад остановили в электричке молодого человека с беспокойным взглядом, нашли у него в сумке пропавшую церковную утварь и икону, изображавшую того самого старца, что соткался из воздуха у Агриппины в избе. Икона заняла свое место, а еще через некоторое время приехал Синий.
Синий – так звали первого страдальца. Первого из наркоманов-реабилитантов Ройзмана, который приехал в Быньги. Он получил кличку Синий по той единственной причине, по которой получают люди на Урале эту кличку, – за татуировки. Не модные красочные татуировки, а простые синие, которые накалывают в тюрьме. Местные деревенские Синего приняли в штыки. Здесь и вообще-то чужих не любят, а этот еще и наркоман. Терпели, потому что от Ройзмана. Уже тогда имя Ройзмана имело значение. Но не здоровались, хотя и заметили, что Синий починил в своем доме фундамент и поправил забор. А потом был пожар. Сильный. Не у Синего, а по соседству. И Синий потушил его еще до приезда пожарной команды – ловко орудовал ведрами и толково руководил еще двумя страдальцами. Наркоманов зауважали.
А когда вскоре приехал Ройзман и предложил отцу Виктору, чтобы реабилитанты реставрировали храм, батюшка догадался. Прозрел промысел. Угоднику Николаю, говорит батюшка, неугодно было, чтобы его храм восстанавливался на деньги начальства и силами гастарбайтеров. Промысел был в том, чтобы, восстанавливаясь, храм Николы-угодника в Быньгах восстанавливал страдальцев. Таких, как Гриша.
Пока батюшка рассказывал, Ройзман закончил свою экскурсию, со всеми сфотографировался, всем раздал маленькие задания, со всеми переговорил быстрой уральской скороговоркой, подошел к столу, принял от одной из «девушек» чаю и сказал:
– Батюшка, камни-то в основании иконостаса ребята отчистили. Надписи открылись. Оказывается, иконы не так висели. Надо бы перевесить-то.
– Перевесим-то, – батюшка улыбнулся, потому что вот и ему досталось от Ройзмана простое и очевидно полезное задание.
А Гриша, вероятно увидев из окон реабилитационного центра машину Ройзмана, вошел в церковь, поздоровался, но за стол не сел. Стоял поодаль. Тощий, тихий человек. Ждал.
Про этого Гришу Ройзман рассказывал мне уже давно. Он был наркоман. Жил в реабилитационном центре, убегал, срывался, возвращался снова. А добившись, наконец, устойчивой трезвости, так и остался в реабилитационном центре жить. Идти ему было некуда. Постепенно на Гришу замкнулось в Быньгах все хозяйство: и реставрация храма, и воспитание вновь прибывших реабилитантов личным примером, и огород, и детский летний лагерь, и маленькая пасека.