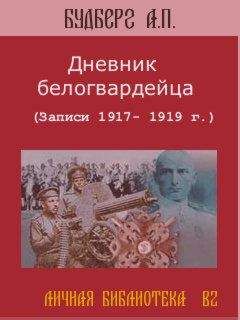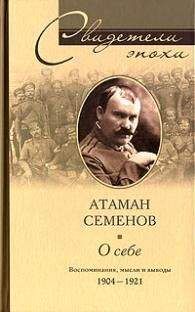Я плохо знаю теперешнее состояние Германии, но мне кажется, что немцы должны были быть очень уверены в патриотизме и разуме своего народа и в его иммунитете от выбрасываемой на нашу гибель заразы, когда решались на такое исключительное средство, видимо последнее, что у них оставалось, чтобы вывести из строя своего наиболее опасного по естественным ресурсам врага. Еще в 1905 году юмористический журнал князя Волконского "Плювиум" доказывал, что наиболее распространенной в России партией являлись С. С. (сукины сыны) с девизом "поменьше работы, побольше денег". Теперь этот девиз пущен в самое широкое обращение и перевернул все вверх тормашками, ибо, неперевариваемый и в мирное время, он во время войны, да еще такой, как настоящая, хуже самой смерти. Он нас быстро и бесповоротно слопал, ибо не было у нас против него противоядия: здорового, сердцем и головой рожденного патриотизма, разума и просвещения народных масс и дельных и прозорливых политических вождей; не было и необходимых при такой заразе дезинфекционных и асептических средств: силы и железа власти.
Июньско-июльские опыты главковерха из адвокатов помогли немцам не менее чем Ленин со "товарищи"; шкурников силой погнали на бойню и реально показали всю колючую сторону войны и все ее ужасы; шкурники воочию увидали, что может случиться с их шкурой, если слушаться самого даже наидемократичнейшего и сладкоглаголивого начальства; они поняли, что при таких наступательных неприятностях можно и шкуру продырявить и не получить своей доли в сладких приобретениях российской революции каковых они с большим нетерпением и не меньшей жадностью ожидали.
Товарищ Керенский вообразил, что армии можно поднять на подвиг истерическими визгами и навинчиванием толпы пустопорожними резолюциями; он так привык к словесным победам над слабыми головами русских судей, над настроением публики больших политических процессов путем многоглаголания и сбивания всмятку мозгов у слушающих, что считал, что эти методы применимы и при воздействии на те вооруженные толпы-массы, который именовались армией. Штатский Главковерх, вероятно, искренно и убежденно думал, что обладает такой силой глагола, которая способна произвести тот же, как и на митингах и словопрениях, эффект в применении к тому Великому Ужасу, который именуется войной, да еще и в современном ее воплощении с ее невероятно грандиозными и цепенящими даже и не робкие души средствами истребления и великого душевного потрясения. Я до сих пор помню тех сошедших с ума солдат-немцев, которых мы взяли в плен после 48 часового обстрела немецких окопов; а, ведь, у нас был только 6-дюймовый калибр. Я помню присланные нам выписки из дневника убитого при обратном взятии Вердена немецкого капитана, отметившего, что расположение его соседа уже седьмой день обстреливается непрекращающимся ни на минуту огнем 28-сантиметровых орудий, и что почти все защитники этого участка сошли с ума.
Быть может, в окопах мы еще как-нибудь отсидимся, но мечтать сейчас о наступлении могут только совершенно безумные люди. Четыре месяца тому назад моя 70 дивизия была еще способна на порыв и на наступление, а теперь нельзя об этом и заикнуться; о таких же отбросах, как 120 и 121 дивизии, и говорить нечего. Малейший разговор даже о подготовке к каким-нибудь наступательным действиям сразу швырнет войска в руки тех, которые им говорят, что продолжение войны нужно начальству, чтобы получать побольше денег и побольше наград, и сделает нас для наших солдат врагом бесконечно более опасным и ненавистным, чем сидящие в окопах немцы; последние очень умело бубнят в ежедневно нам бросаемых "Товарищах" и "Русских Вестниках", что они друзья русского народа и совершенно не хотят с ним воевать; если же нет мира, то вся задержка только в русском начальстве и в русских офицерах.
Неужели же Псков не знает и не понимает всего этого, особенно после уже бывшего печального опыта июньского наступления, которое самым кричащим образом доказало, что даже тогда, при несравненно более разумном настроении частей фронта, они оказались неспособными даже на небольшой порыв, необходимый для того, чтобы наступлением пехоты закрепить результаты, добытые двухдневной и очень продуктивной работой огромной артиллерии, в небывалых еще здесь на фронте размерах. И это было четыре месяца тому назад, состояние частей было бесконечно лучше, стояла чудная летняя погода, дороги были в отличном состоянии, в порядке были и лошади. Теперь три недели сплошных дождей обратили дороги Двинского района в непролазные топи (сегодня по дороге в Двинск, на главной магистрали я видел несколько парных экипажей, затонувших в грязи и так и брошенных; выпряженные лошади отдыхали на ближайших пригорках). Весь конский состав от тяжелой работы и плохого подвоза фуража, а также от "революционной" халатности товарищей доведен до отчаянного состояния; обозные и парковые смотрят только за теми лошадьми, которых они решили взять с собой при ожидаемом ими конце войны домой (это они считают своим законным не подлежащим никакому оспариванию правом).
Все эти условия относят все мечты о наступлении в разряд совершенно несбыточных и в то же время очень опасных утопий, в которых нам очень легко "утонуть". Но наши Ставки и Главкоштабы живут на луне, в полном забвении действительности, с местом и временем не считаются, войск, их состояния и условий их жизни и службы совершенно не знают; очевидно, что при такой обстановке возможны идиотизмы и нелепости всякого сорта или калибра.
Какие либо возражения или убеждения тут бессильны; в этом отношении революция ничего не изменила и Главкоштабы по прежнему гордо восседают на старых тронах, окруженные атмосферой беспрекословного послушания и воспрещения "сметь свое суждение иметь". Мы обязаны по рабски все принимать; нам только приказывают и приказывают к исполнению то, что сами приказывающие осуществить не в состоянии, причем они не могут не знать, что войска этих распоряжений все равно не выполнять и что ни комитеты, ни начальники не располагают уже теперь средствами для того, чтобы заставить неповинующаяся части выполнить отдаваемый им приказания. И ведь чем дальше, тем хуже, ибо по той дорожки, по которой мы катимся вниз, уже нет возврата.
Получается идиотская, невыразимо мрачная и бесконечно опасная нелепица продолжаем думать или притворяться, что представляем из себя еще что-то в то время, когда мы уже ничто и бесповоротно ничто, или во всяком случае очень близко к этому пределу. Уже поздно; поздно и позорно становиться теперь в грозные позы и греметь громами, более смешными и бутафорскими, чем громы Калхаса; никто уже не верить в поверженных и развенчанных богов и в их силу, никто уже не боится их громов; а если и продолжают иногда еще слушаться, то это "последние тучки рассеянной бури". Все же хочется думать, а временами даже и варится, что несмотря на всю мрачность нашего положения, не все еще окончательно потеряно, и что приняв немедленно самые исключительные и не останавливающаяся ни перед какими экстравагантностями меры, можно было бы продолжать вести оборонительную войну эти меры - отказ от наступления, переход на добровольную службу за большое вознаграждение, а главное прекращение той подозрительности, с которой относятся к нам строевым начальникам правительство и разные комитеты, особенно после Корниловской истории. Все мы, сидящие на самом фронте, у самого солдата, бесконечно далеки от тех заоблачных фантазий, от которых пухла голова ставочных восстановителей, и в этом отношении нас бояться нечего, а нам надо поверить и нам помочь; как бы ни далеки были мы от согласия с тем, что установилось сейчас на Руси, но мы думаем только о фронте, о возможности продолжать войну и победить врага; потом мы уйдем или будем, может быть, бороться против того, чего не сможем признать, но сейчас для данного порядка вещей нет никого более ему лояльного, чем огромное количество строевого командного состава.