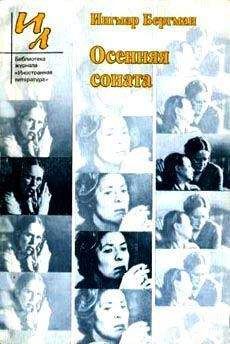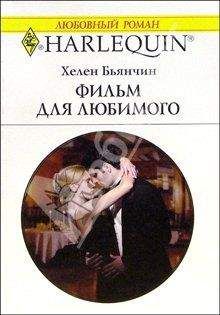белые зубы, похожие на жемчужины. Он был красивым, мой дядя Юра, и знал это, а еще он был жутко талантливым, рисовал, лепил, делал украшения и занимал чужие деньги, и я хочу помнить все хорошее о нем и забыть все плохое, но не могу, потому что все хорошее и все плохое составляет человека, и если выбросить из памяти все плохое, то от человека останется только половина, а то и меньше, и скоро он сам начнет испаряться, таять, словно дым или туман после сырой ночи солнечным ярким утром.
Поэтому я буду повторять все. Главное, не терять порядок, очередность, не сбиться. Сначала имена, потом лица, потом улыбки, как люди сидят и смеются, как пьют кофе или чай, сколько кладут ложек сахара... и где прячут шоколадное печенье. Я буду помнить, как отец после бани сидел во дворе своего дома, который построил Джек, голый по пояс, с коричневой выдубленной кожей, и курил, глядя на красные розы, что посадил сам, и на деревянных медведей, которых привез с Урала, чтобы украсить двор. Я вспоминаю, как дядя Юра показывал мне, как вырезать резцом на серебре и болтал со мной, как со взрослым, а за окном молочно белел рассвет, в доме все спали, и я думал, что скоро вырасту и стану ювелиром. И еще я помню, как молодой дед шагает мне навстречу в синем замасленном комбинезоне, как у танкиста, на голове у него шерстяной берет, и он идет на завод в огромном потоке таких же людей в синих замасленных комбинезонах и беретах, потому что обед закончился и все возвращаются на работу.
Я буду вспоминать их каждый день, обещаю я себе. И однажды напишу одну книжку про деда, одну про отца и еще одну про дядю Юру. А может, это будет одна, общая книжка, про людей, которых я люблю. Там у них будут имена, лица, улыбки и смех, там они будут вместе сидеть на кухне, отец не уйдет от мамы, дядя Юра не станет занимать чужих денег, а дед будет посмеиваться, глядя на вазочку с шоколадным печеньем. Там у них все будет хорошо. И я, наконец, перестану за них бояться.
Может быть, именно поэтому я не стал ювелиром.
Однажды в нашей квартире зазвонил телефон...
Я снял трубку.
- Алло? - сказал я хрипло. У меня начинал ломаться голос. По телефону меня иногда принимали за отца — с его насмешливым прокуренным тенором.
- Дима? Узнал? - спросил воркующий девичий голос.
- Конечно, - мужественно ответил я. Хотя ни фига не узнал. Кто это может быть? Настя из соседнего подъезда? Ленка Полуэктова? Олька Афанасьева? Учительница музыки в полупрозрачной блузке? Джина Лоллобриджида из Фанфан-тюльпан? Хорошо бы.
- Пойдем вечером на танцы в парк? Вместе?
Вся жизнь пронеслась у меня перед глазами. Все коробки пластилина, похожего на тол из фильмов про войну, все миллионы слепленных солдатиков. Пластиковая модель "мига" и ледокол "Ленин" с тысячью крошечных дверей. Все взорванные в подъезде патроны и бутылки с карбидом. Пламя над забором и индийское кино "Танцор диско". Ачи, ачи, джими, джими. Классическая борьба. Все горы прочитанных книг и суровые слезы капитана Блада по Арабелле. Несчастная, но дико привлекательная еврейка из Айвенго. "Три орешка для Золушки" и эротические переживания на снегу. Смеющиеся девчонки у магазина и взгляды искоса. Хи-хи. Тонкие руки. Деревянные мечи и стрелы Робин Гуда. Любовь, сжигающая все.
Все предшествующие годы я ждал этой фразы.
С этого момента начиналась моя взрослая жизнь, полная приключений и подвигов.
- Ладно, - сказал я. - Пойдем.
Воркующий голос продолжал:
- Зайдешь тогда за мной в шесть?
Мгновенное головокружение. Зайти куда? Наваждение спало. Кто это? Где живет?
Как узнать?!
Нужно принять решение.
- Нет, - сказал я.
В трубке замолчали. Я слышал только дыхание.
- Нет?! - голос вдруг на мгновение показался знакомым. - Почему нет?!
- Я передумал. Не хочу на танцы.
Израненный капитан Блад стоял в изрубленной кирасе и смотрел, как верный "Синко Льягас" уходит на дно. Французские ядра свистели над его головой. Голубые глаза капитана были спокойны...
- Но... подожди! - взмолились там.
Я положил трубку.
Пузыри вырвались на поверхность, вода взбурлила... и только уцелевшая фок-мачта все еще возвышалась над гладью залива. Вскоре исчезла и она.
Капитан Блад вздохнул.
Погнутая, окровавленная шпага выпала из его усталой руки.
Бум.
Тишина. Мужское одиночество.
Подошел Скарамуш и похлопал меня по плечу. Обычная саркастическая улыбка была полна печали. Издалека, сквозь пары гашиша, на меня отрешенно смотрел граф Монте-Кристо, возлежа на подушках. Пан Заглоба, Д'Артаньян и Анжей Кмициц молчали, но я чувствовал их поддержку. Восставший раб Спартак кивнул мне.
- Женщины, - произнес гладиатор, словно это было ответом на все вопросы.
Женщины. Загадочные создания, ради которых только и стоит совершать подвиги. Я вздохнул.
Почему они, блин, не могут говорить нормальным голосом?!
Чтобы не забыть. Мне было три года, когда родители уехали покорять Север, в Нижневартовск. Я остался в Кунгуре (Урал) с бабушкой и дедушкой. Так я прожил полгода.
Когда я плакал и ночью не спал, дед брал меня на руки и выходил на улицу. Он выводил из гаража мотоцикл ИЖ-Юпитер 3, сажал меня в коляску и катал, не заводя двигателя, мотоцикл по двору, возле дома. Двигатель не заводил, чтобы не будить людей. И я катался и, наконец, спокойно засыпал. Три или четыре часа утра, уже светало, воздух был пронизан мягким невесомым светом, словно вода.
А когда меня привезли к родителям (дед? мама приехала? не помню) в Нижневартовск, им как раз дали половинку балка (это вагоны такие, снятые с колес). Пока ехали, я смотрел с верхней полки, как в черноте за окном поезда вспыхивают факелы. Это попутный газ сжигали на месторождениях. Мерный перестук колес, черная тайга и факелы.
Я когда приехал, игрушек в балке не было. Совсем. Я лег спать. А потом с работы пришла мама и принесла сорок или пятьдесят одинаковых пластмассовых солдатиков — в зеленой форме, руки по швам, ноги на