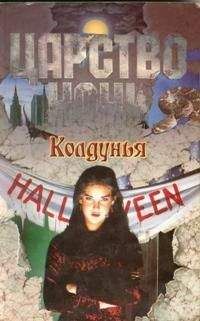Вот почему я не могу ограничиться одной лишь записью того, что пережил, видел и слышал, а вынужден записать и немногое из того, что передумал, сталкиваясь со всеми подделками, на которые так ловок сталинизм, готовый к фальшивкам в любой области, – от истории до экономики, правосудия и биологической науки. Я обязан был написать и сохранить для внуков эти тетради.
1. Комсомольское крещение
В феврале двадцатого года одесский комсомол вышел из деникинского подполья. В марте в глухой уездный город Ананьев прибыл посланец губкома комсомола. Был он маленького роста, чернявый и живой. Его звали Коля Чудновский. В актовом зале женской гимназии состоялось собрание рабочей и учащейся молодежи города. Ананьевская организация комсомола родилась.
Молодых рабочих в ней было немного в Ананьеве, захолустном городишке, всей-то промышленности было полдюжины мельниц и маслобоек. Железная дорога проходила в пятидесяти верстах.
Кругом, в лесах и селах, во всех углах и на всех дорогах еще продолжалась гражданская война. Молодая организация вскоре получила боевое крещение.
Под городом вспыхнуло восстание. Между Ананьевом и Балтой было несколько богатых сел. Центром восстания стало село Пасицелы. Там, говорили, укрылся отряд белых офицеров. Какой-то кулацкий батька привел из балтских лесов свой конный отряд. У восставших имелась даже пушка-трехдюймовка. Партийную и комсомольскую организацию города перевели на казарменное положение. Нам роздали оружие. Взяв винтовку, я обнаружил, что до мушки еще не дорос.
Гарнизон города состоял из одного взвода красноармейцев. Вместе с коммунистами и комсомольцами составился маленький отряд. Его именовали сводной коммунистической ротой. Мы двинулись против Пасицел.
Утром, лежа в цепи на свежевспаханном поле, я увидел командира. Высокий молодой парень, при шашке и с наганом в руке, он крупно шагал, не кланяясь пулям, и повторял:
– Товарищи, зря патронов не расходуйте!
Когда он подошел поближе, я узнал Ваню Недолуженко – мы с ним вместе учились до революции в сельской двухклассной школе моего родного местечка Черново. Он был старше меня года на три-четыре, успел уже побывать на германском фронте и там стал большевиком.
Не спросил я его, где его школьные друзья, кулацкие сынки Серочан и Шерстюк, – в петлюровцах или в белых? Росли мальчишки, играли вместе на школьном дворе, а когда выросли, словно чья-то острая шашка разделила их…
Свистнула острая шашка, и я вслед за Ваней Недолуженко бегу с криком "ура" на восставшее село, на кулацких сынков, и мы достигаем первых хат и влетаем в широкую улицу. Бабы укрываются в погребах, мужчины прячутся на чердаках с винтовками, а мы летим вперед и вперед…
Мы шли в атаку. Моими соседями оказались: с одного боку незнакомый красноармеец, обросший черной щетиной, с другого – гимназист, такой же, как я. Нас, необстрелянных птенцов, не ставили всех в один ряд, а разбавляли бывалыми солдатами, чтобы те на ходу учили нас.
Невдалеке от меня ранило Сему Когана. Сема был мой гимназический дружок, тихий-претихий мальчик в железных очках с толстыми стеклами, первый ученик в нашем классе. Что он, полуслепой, делал в цепи? Но мог ли он позволить себе не идти в цепь на таком пустяковом основании, как очки? Он не умел попасть в цель, зато мог быть мишенью вместо товарища. Сема честно выполнил свой долг.
Между тем, к повстанцам присоединился какой-то "зеленый" отряд, прибавилось кавалерии. "Зелеными" тогда называли себя разные кулацкие повстанцы, подчеркивая, что они не красные, но и не белые. А нас была горсть, и мы не имели даже пулемета. Назавтра снова был бой. Из него вышло меньше половины нашего отряда. Мишку Патлиса, моего хорошего товарища, я не видел после боя. Его не нашли и среди убитых. Какая нужна невероятная жизненная сила, чтобы с разрубленной почти надвое головой, истекая кровью, ползти, терять сознание и, придя в себя вновь упорно ползти – и добраться до своих! Мишка приполз к следующему утру. Наши санитарки, комсомолки, такие же молоденькие, как мы, перевязывали Мишку и плакали, плакали…
Когда я вижу плачущую женщину, мне становится не по себе. Только раз я остался равнодушным к женским слезам. То были всего две скупые слезинки моей матери. Все эти дни она не знала, где я. Конечно, я не снисходил до того, чтобы писать письма родителям. Но когда до местечка дошли слухи о большом сражении под Балтой, мама поняла, где искать пропавшего сына.
Была ранняя весна, распутица. О поездке в телеге по раскисшим проселочным дорогам нечего было и думать. Мама достала у знакомых коня. Отец не смог ее удержать. В местечке Черново наверно не видели еще еврейскую женщину верхом, да и в Ананьеве тоже. Вся облепленная грязью, мама ехала, расспрашивала – и добралась-таки до того леса, где совсем недавно лежал, сжимая винтовку, ее мальчик, ее глупый, бестолковый сын. Разумеется, его там уже не было. Да и не приходило ему в голову, что мама сходит с ума от горя. Странный, ненормальный сын!
Может, мы и в самом деле были глухи и глупы, если стыдились сыновних чувств, думая, что они повредят нашей борьбе за дело пролетариев всех стран – особенно, когда мама непролетарская.
Маму я увидел, когда прибыл в санитарной летучке в Одессу после ликвидации восстания. Она не бросилась мне на шею, не облила меня слезами. Долгим взглядом своих прекрасных глаз смотрела она на меня. Я не выдержал и от смущения сказал какую-то глупость…
И тогда по маминым щекам покатились две слезы…
Я вернулся в Ананьев полный комсомольского, как тогда говорили, задора. В качестве инструктора уездного комитета я ездил и ходил по селам – чаще ходил, чем ездил. Нас посылали по двое. В рваных ботинках, которые мы обычно снимали, чтобы легче было идти, с винтовкой за плечами шагали мы от села к селу. В карманах у нас лежали мандаты укома. В нашей части уезда, поближе к Одессе, еще в екатерининские времена, возникли многочисленные немецкие колонии. По наружному виду они резко отличались от окрестных сел. Улицы не утопали в грязи, а были вымощены булыжником. Большие дома краснели черепичными крышами. В каждом дворе под навесами полно машин: косилки, сеялки, веялки.
Мы рискнули отправиться в немецкие колонии. Во дворе сельсовета, где председатель созвал митинг (не раньше, чем прочитал наши мандаты), толпились только парни – девушек родители не пустили. Кроме сыновей, явилось несколько хмурых фатеров. Чтобы меня лучше поняли, я примешивал к русской речи десяток ломаных фраз на полуеврейском-полунемецком самодельном наречии (немецкому нас учили в гимназии). В комсомол не записался никто. Видимо, фатеры заранее показали сыновьям добрый кнут. Когда мы выходили из села, вслед нам хлопнул выстрел.