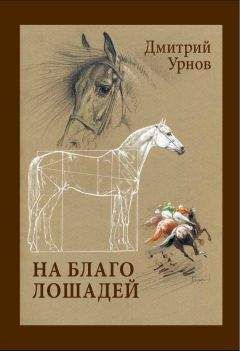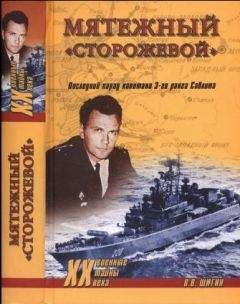Решался вопрос спортивной национальной чести. Лошадь еще сохраняла всю полноту своего значения в хозяйстве, армии, и потому среди других видов спорта первенствовали бега и скачки. Строились конюшни, где лошадям было предложено если не на золоте едать, то во всяком случае стойла для скакунов сооружали чуть ли не мраморные, – бестолковый, однако внушительный памятник тогдашнего отношения к лошади. Манежи действовали в центре больших городов. Когда бежал Крепыш, на ипподром отправлялась вся Москва. Будто сам я был в той толпе и, подымаясь на носках, старался увидеть, как пройден первый круг, – настолько переживал я за Крепыша. Он проиграл! Не потому, что оказался хуже, а из-за коварства Кейтона. Снова и снова разбирал я в журнале статью про исторический бег, всегда задерживаясь на последних строках: «Жаль Крепыша!» А потом вдруг почему-то говорилось в журнале: «Как жаль уходящей молодости!»
С тех пор, если отправлялись мы с дедом смотреть самолеты и кондуктор говорил «Бега!», мне всякий раз вспоминалось: «Жаль уходящей молодости!»
Недавно все в том же троллейбусе молодая женщина с малышом спросила:
– Какая следующая остановка?
Кондуктора теперь в троллейбусе не было, и я ответил:
– Бега.
– Мама, что такое «бега»? – спросил мальчик.
«Жаль уходящей молодости!» – произнес я про себя.
Женщина сказала:
– Не знаю.
Что такое бега? Какая разница – бега и скачки, рысак и скакун, наездник или жокей? Чем чистокровная лошадь отличается от чистопородной? Орловский рысак – из Орла? После верховой езды ноги обязательно становятся кривыми? Про Вронского и Фру-Фру у Толстого – правда? Что значит Холстомер, мерин и пегий? Когда говорится «посыл», это куда или что посылают? Почему у лошадей селезенка от сытости екает? Лошади едят только овес? Что важнее: хороший ездок или хорошая лошадь? Что такое лошадь, в конце концов? – такие вопросы приходилось слышать множество раз.
Не сделался я по профессии ни летчиком, ни лошадником, а стал литератором и лишь отчасти лошадником. Для меня самого иные из этих вопросов, если взять их в высшем, специальном смысле, остаются темны.
– Вожжи в руках, – только и услышал я от опытного наездника, когда добивался, почему лошадь, на которой еду я, идет боком, а у него – на чистом ходу.
Я тогда начинал ездить и делал ошибки простейшие. Наездник мог бы объяснить подробнее, указать приемы. Он же сразу сказал о главном секрете. Позднее приемы стали мне известны. Я узнал про лошадей и езду едва ли не все, что можно и нужно было узнать, однако неуловимая магия мастерства, tact èquestre, как выражался знаменитый ездок Филлис, «чувство лошади» по-прежнему не давалось мне, и, терпя неудачи, я твердил про себя те же слова.
«Вожжи в руках» – вот таинство. Садится один, и лошадь, чувствуя руки, идет как часы, ноги не сменит, а у другого – никак.
В рассказе «Изумруд» Куприн поймал момент идеального хода. У него раскрыто таинственное взаимное понимание между наездником и лошадью. Серый Изумруд вспоминает своего наездника: «Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем как радостно, гордо и страшно приятно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить его – Изумруда – до того счастливого, гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело, и так легко».
Гамлет у Шекспира с восторгом наблюдал конную репризу знаменитого французского ездока Ламона:
К седлу, казалось, он прирос и лошадь
К таким чудесным принуждал движениям,
Что он и конь его как будто были
Одно творение.
О подобном искусстве и говорят «чувство лошади», «руки» или «железный посыл», то есть умение взять от лошади все, что можно, или даже больше того, на что она вообще способна. Это – высшее. Меня сокрушали задачи куда более скромные. Я нашел их описанными в «Зазеркалье» у Льюиса Кэрролла, что, впрочем, естественно, ибо (как иные утверждают) наиболее причудливые и самые современные понятия о положении человека в пространстве и даже сама теория относительности могут быть вычитаны из этой детской книжки. О положении в седле там говорится вполне актуально, по крайней мере, для меня.
– Великое искусство верховой езды состоит… – с этими словами рыцарь Зазеркалья обычно вываливается из седла.
Моя беда заключалась и в том, что я старался постичь навыки езды слишком филологически (по основной своей специальности) – через слова. Как называется? Что это такое? – без этого я не способен был двинуться. И находились наездники, тренеры, которые терпеливо втолковывали, что и как. С умением, вообще характерным для лошадников, они говорили картинно, что называется, по охоте, как и подобает этому живописному делу. Особое владение хлыстом, посыл, сборка, понимание пэйса (резвости),[1] величие былых и нынешних мастеров – все это сверкало в их устах и у меня перед глазами, однако неизбежно вставала грань, за которой объяснения бессильны: «Вожжи в руках!»
Отчасти тут есть и филологическая – словесная проблема. «Кататься пришел?» – иногда спрашивают меня на конюшне и обижают жестоко. Катаются на пони детишки в зоопарке! А я что – мальчик? Новичок? Разве надо за мной присматривать, когда я сажусь на лошадь? Обидеть, конечно, и не думают. Так чаще всего говорят люди, которые сами-то не очень понимают дело, на конюшне они оказались случайно. От мастеров «кататься» не услышишь. «Будете ездить? Отработаешь гнедого», – таковы их слова. У конников, как в любой профессиональной среде, есть свой язык, которым они пользуются виртуозно, и всякий, кто сколько-нибудь их понимает, различит в речи конюшни красочно выражаемые тончайшие смысловые оттенки в описании лошадей и взаимоотношения с ними. Конники пользуются и обычными словами, но с особыми ударениями и отличительным произношением, и если шахтеры говорят «до́быча», то наездник скажет о жеребце «резо́в».
«Истинные конники вообще ездить не любят», – энтузиасты доходят и до таких крайностей. Лошадь для них предмет созерцания и восторгов, словом, переживаний, а не практического использования. Но уж если говорить о понятиях, среди конников принятых, то на лошади не катаются и не ездят. «Лошадь ездят», «лошадь работают» – такие существенные оттенки подчеркивают активность всадника; они передают серьезность, системность, сознательность обращения с лошадью, это как всякий труд, как любая работа.
У неискушенных при виде лошади или при мысли о ней возникает импульс мчаться, лететь, нестись. «Конь несет меня лихой, а куда – не знаю», – сказал поэт, и всякий, кто подобно Дон-Кихоту, почерпнувшему из романов представления о рыцаре, всякий, говорю я, кто также вычитал лошадей из книг, убежден, будто на лошади надо обязательно нестись и лететь. Между тем у конников нет доверия к всаднику, который только и может, что носиться на лошади. «Что вы носитесь?» – спрашивают его с досадой, то есть, почему человек не управляет, не распоряжается лошадью сам, а она его таскает, куда ей вздумается.