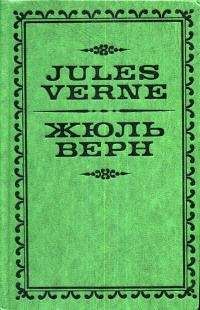Конечно, читатели никогда не теряли Жюля Верна из виду. Его произведениям довелось пережить его самого. Но нет сомнения, что мы присутствуем при подлинном возрождении его и усматриваем в нем нечто гораздо большее, чем просто автора приключенческих книг для юношества.
Многие открывают его для себя, и, должен сознаться, я тоже открываю его заново.
Преодолеем же вместе течение времени и вернемся назад на поиски старого сказочника.
Дом на бульваре Лонгвилъ, в Амьене; рабочий кабинет и повседневная жизнь старого писателя. У изголовья умирающего.
Начнем с конца, как советует Эдгар По, не для того, чтобы прийти к предвзятому выводу, а чтобы обрести прочную основу, которая поможет нам постичь человека.
Концом было бы описание его похорон. Но они касаются только покойника и, следовательно, интересовать нас не могут. Я ограничусь лишь упоминанием, что германское правительство сочло нужным послать своего представителя, чтобы выразить соболезнования родственникам покойного. Нашу семью тронула дань уважения со стороны Германии писателю, который далеко не всегда уважительно отзывался о ней.
Истинным концом Жюля Верна, как и всякого другого человека, могло быть только мгновение, когда, еще пребывая в этом мире, человек уже готов покинуть его. Мой старший брат и я, едва успев обосноваться на побережье Средиземного моря, вызванные телеграммой, присоединились к родителям и брату, находившимся в Амьене у изголовья умирающего.
Увидев всех своих близких подле себя, он как бы объял нас единым взглядом, ясно означавшим: «Вот вы все здесь, отлично, теперь я могу умереть». Затем он повернулся лицом к стене, стоически ожидая смерти. Его спокойствие и мужество произвели на нас сильнейшее впечатление, и мы пожелали себе, когда придет наш час, такого же прекрасного и мирного конца.
Вскоре наступила агония, и он испустил последний вздох 24 марта 1905 года в восемь часов утра. Сразил его приступ диабета.
Моя сестра Мари в одном из писем сообщает, что он якобы сказал пришедшему навестить его священнику: «Хорошо, что вы пришли: вы меня словно возродили», но она добавляет — и это куда более примечательно, — что он просил близких избежать несогласий, которые могли между ними возникнуть. Последний образ живого Жюля Верна возникает в моих воспоминаниях о встречах с ним за несколько месяцев перед отъездом из Парижа, когда родители мои твердо решили перебраться в Тулон.
Мы довольно часто ездили в Амьен провести несколько дней у деда и бабки. Иногда я задерживался у них. Как-то — мне было тогда пять лет — я прожил там несколько месяцев, и меня водили в находившийся неподалеку детский сад. Я сопровождал бабушку, когда она навещала друзей. Но, по правде сказать, мне больше нравилось в саду при их доме на улице Шарль Дюбуа: он казался мне очень большим. Позже я должен был признать, что мое детское впечатление сильно преувеличило его размеры и что на самом деле он был невелик. Иногда я видел, как там прогуливался мой дед в сопровождении своей собачки Фолетт, пирардского спаниеля черной масти. Чаще же всего я виделся с ним во время трапез в маленькой столовой флигеля, выходившего окнами во двор; всю первую половину дня он проводил в своем рабочем кабинете. О жилых помещениях у меня сохранилось лишь весьма туманное воспоминание. В сущности, сколько-нибудь ясно помнится мне только длинная застекленная галерея, к которой примыкали гостиные и большая столовая, куда я заходил редко. Все это казалось мне просторным и роскошным. На самом же деле речь шла о том, что именуется парадными комнатами, обставленными так, как это было принято в провинциальных буржуазных домах того времени для приема гостей.
Когда я впоследствии снова увидел этот дом, поразили меня не столько его размеры, сколько количество комнат на всех этажах. Конечно, там надо было размещать сына, двух невесток, да еще и обеспечить уголок для писателя, но в любом случае он мог принимать в своем доме и членов семьи, и друзей, нисколько себя не стесняя. Впрочем, в этом не было ничего необычного по тем временам, когда строили для потребностей более широких, чем теперь.
С 1901 года мы посещали деда и бабку в более скромном доме № 44 на бульваре Лонгвиль, в двухстах метрах от прежнего. Дед мой не изменил своих привычек. Всю первую половину дня он проводил в рабочем кабинетике, вполне заслуживавшем такого названия — настолько невелика была эта комната. Пользовался он двумя простыми столами — за одним писал, на другом располагались бумаги и документы, — вольтеровским креслом и походной кроватью. Когда в пять утра он вставал, ему достаточно было сделать один шаг, чтобы от сна перейти к работе. Сквозь туман воспоминаний видится мне прибитая к стене полочка с глиняными трубками.
От комнаты этой у меня осталось впечатление строгой кельи, предназначенной для работы и размышления. К кабинету примыкала более просторная и лучше обставленная комната, служившая библиотекой. Он заходил туда лишь для того, чтобы взять нужную для работы книгу. Такова была сокровенная обитель, где писатель, несомненно, искал одиночества и тишины.
В первый этаж он спускался только в часы трапез. Столовая освещалась большим окном, за которым виднелся крошечный садик, куда слетались воробьи клевать разбрасываемые бабушкой хлебные крошки. С противоположной стороны находилась широкая дверь в гостиную, загроможденную чрезмерным количеством мебели и довольно скудно освещенную окнами, выходившими на бульвар.
Дедушка, которому по состоянию его здоровья была в то время прописана строгая диета, ел наскоро, раньше, чем мы. Чтобы как можно скорее заканчивать всю процедуру еды, он пользовался низеньким стулом, так что тарелка была почти на уровне его рта. Впрочем, он имел право лишь на яйцо всмятку в чашке бульона.
Стремление поскорее кончать с едой было для него старой привычкой, усвоенной с тех пор, когда, терзаемый волчьим голодом своей болезни, он торопился поглотить неимоверное, ужасавшее его близких количество пищи. Чревоугодие было тут ни при чем, ибо он очень мало внимания обращал на содержимое блюд, к величайшему огорчению своей жены, весьма искусной поварихи. Он был голоден, вот и все, и голод этот явно причинял ему страдания.
Этот неутолимый голод являлся, по-видимому, признаком заболевания, которое я долгое время считал чисто желудочным, как и он сам, о чем свидетельствует его письмо к брату от 12 ноября 1895 года: «Я много работаю, по теперь беспрестанно испытываю головокружения — все это от расширения желудка, в моем возрасте, вероятно, неизлечимого. Дело явно идет к концу». В последние годы жизни ему пришлось резко ограничивать себя в еде, начав курс лечения — к сожалению, слишком поздно. Трудно избавиться от мысли, что постоянно испытываемый им голод связан был с диабетом, от которого он и погиб. Причина или следствие? Пусть решают врачи. Отметим только, что он страдал также тяжкой и длительной невралгией лицевого нерва, впервые проявившейся еще в 1854 году, вследствие чего в конце концов у него произошло опущение левого века.