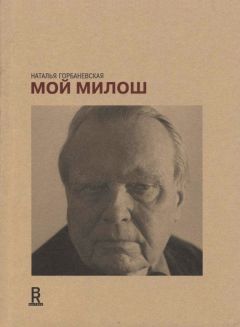Этот переломный пункт должен быть гораздо выразительней в великую войну ХХ века – как ни говори, а наполеоновские войны были столкновением сил в пределах цивилизации, ни одна из сторон не выступала с программой сорвать человека с пьедестала и не подвергала сомнению его установившееся веками достоинство. Там, где личность, переживающая этот переломный пункт, вынуждена перенести не только сам вид озверения, но и влияние доктрины, оправдывающей и восхваляющей голое зверство, – возможность сломиться намного больше. На душу, угнетенную такой картиной, какую увидел Пьер Безухов, грузом ложатся слова пропаганды, в основе которых лежит восторг перед безжалостным насилием и – вопреки накопленному достоянию западной культуры – восторг перед «естественным» человеком, не сформированным ни Евангелием, ни таинствами, ни обычаями благожелательного сосуществования согласно ius gentis. Эти слова могут воздействовать сильно и оставить прочные следы в неосознаваемой, но важной для поведения сфере, где рождаются рефлексы мысли и действия.
Каковы могут быть результаты этой внезапной утраты веры? Не выразятся ли они в изменении коллективного духа, не запятнают ли поведение общества? Пьер Безухов впадает в отупение, в полное прозябание – и это одно из возможных последствий: своего рода сон и равнодушие к окружающим событиям, внутренний паралич, – собственно говоря, до этого состояния и хотят довести гонители, этого им вполне достаточно. Другим возможным состоянием – у личностей более подвижных и ловких – будет остановка на этом уровне внутреннего одеревенения при развитии вовне совершенно циничной деятельности. В гибели оценочности они черпают обоснование самых гнусных поступков: раз ничего прочного не существует, раз жизнь есть не что иное, как бессмысленный клубок пожирающих друг друга червей, – значит, всё позволено, спасем самих себя. Так они идут по пути потаенных или открытых преступников, которых любая масса производит во множестве, но в исключительные времена их рождается больше, чем когда-либо, ибо внутренние тормоза теряют свою действенность.
Однако вышеназванные виды последствий не выглядят настолько заурядными, чтобы следовало опасаться, что они разольются громадной волной, поглощающей мирные формы бытования общества. Опаснее результаты, более согласные с требованиями человеческой природы и поэтому случающиеся гораздо чаще. Врожденная жажда нравственной гармонии, стремление установить хоть какую-то иерархию – любую, лишь бы была, – могут толкнуть к обустройству в руинах этического мира, в руинах веры, а это обустройство называется деформацией ценностей. Усомнившись в наследии, оставленном проповедниками и пророками, призывавшими к борьбе за царство Божие на земле, люди вынуждены высвободить свой энтузиазм, свою любовь к благородным и жертвенным поступкам и лихорадочно ищут вокруг себя чего-то, что годилось бы для обожествления и украшения, – подобные в этом архитекторам, которые брали образцами руины, сочтя их самым прекрасным продуктом строительства и не зная, что где-то существуют подлинно прекрасные и нетронутые памятники искусства. Эту потребность отлично понял национал-социализм: приходя в эпоху, когда военный опыт выжег души миллионов, и используя сильное течение сомнений в цивилизации, охватившее Германию, он поставил на место сверженных богов новый кумир – свое племя, придав ему черты божественности и снабдив его всеми достоинствами истины, красоты и добра. Нет истины, нет красоты, нет добра – безусловных, зато есть германская истина, германская красота и германское добро. Так был заполнен вакуум, и в рамках нового канона нашлось место героизму, самоотречению, товариществу и т. п.
Так как же поведет себя представитель завоеванной Европы, если ему выпадет это духовное поражение? Утратив веру в посланничество (с которой он прожил, правда не без лукавства, XIX век), видя горизонт, повсюду замкнутый ландшафтом руин, он может не найти в себе сил, чтобы выйти из этого заколдованного круга, и согласится устроить свое хозяйство по мерке пожарищ и развалин. Тогда, питая ненависть к врагу и отыскивая, что же противопоставить врагу, он пойдет по его следам и противопоставит ему обратный, но остающийся в тех же масштабах идеал: враждебному племени он противопоставит свое собственное племя и будет его обожествлять, признав его успешность и силу высочайшими критериями деятельности. Человек, человечество – эти понятия вызовут в нем только рефлекс неприязни и раз навсегда останутся связаны с неприятными воспоминаниями – как бессилие какой-нибудь Лиги Наций или фарисейство демократии. Такой подход, превращающий собственное отечество в алтарь, на котором сжигают отдельную личность, позволит ему высвободить весь запас благородства и героизма, тем более что пока продолжается гнет, этот алтарь – еще и алтарь страдающей человечности. Но победа неизбежно принесет раздвоение и поставит вопрос приоритета целей. Если бы такая атмосфера стала повсеместной, континенту вскоре грозила бы новая опасность, вытекающая из экзальтации своим родимым, к чему склонны много перестрадавшие народы.
Вышеприведенные рассуждения я извлек из опыта войны, но было бы ошибочно утверждать, что только он – мотор этих перемен, имеющих куда более сложные причины. Тем не менее опыт войны содержит в себе как бы в сжатом виде историю последних десятилетий, обогащенную накопившимся материалом, сильнее чего бы то ни было другого преображает человека – и затрагивает даже наименее чувствительных. Пойдем дальше. Исчерпывает ли утрата веры всю область феномена? Нет. Толстой велит своему герою утратить веру и затем снова ее отстроить. Пьер Безухов сходит в самую юдоль нищеты в лагере (депо) пленных – и именно там, среди полной примитивности, унижения и смерти, одного за другим уносящей его собратьев по плену, переживает великое преображение, выходит оттуда, смирившись с миром и внутренне свободный. Это происходит через прикосновение к судьбе человека во всей ее простоте, бренности и боли. Можно сказать, что его спасает соседство простого мужика Платона Каратаева: само его ровное дыхание по ночам, его радостное смирение, его полное согласие на всё, что принесет грядущий день, – для Пьера новый и нелегкий опыт; может быть, это попросту называется любовью к ближнему. Идя «босыми, стертыми, заструпелыми ногами» по замерзшим русским дорогам, Пьер открывает, что человек не только зол, но и воистину добр, что земля и жизнь хороши, а зло не должно заслонять нам великую и мудрую гармонию бытия. Даже слабость и ничтожество человека не нарушают этой гармонии, входят как необходимый пункт в какой-то окончательный расчет. Толстой не колеблясь описывает поведение Пьера во время расстрела Каратаева, который слишком слаб, чтобы поспевать за конвоем. «Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел. <…> Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать».
Единственное ли это решение – то, которое дает Толстой? Можно ли, усомнившись в человеке, вновь обрести веру, только отрекшись от всего, чем дарят сытость, социальные различия и пользование материальными выгодами? Можно ли принять цивилизацию только тогда, когда подвергнешь ее огненному испытанию суровости и простоты, принуждая людей проложить между ними те связи, которые возникают «в страданиях, в безвинности страданий»? Такое решение – очень русское, и в России оно повторяется в разных видах много лет. Парадоксально, что защищающаяся от такого решения Европа уже сошла в чистилище примитивности и убожества. Но ее традиции не опираются на евангельское христианство, ее не исходили «старцы», покинувшие семью и имущество, чтобы спасаться в лесах над Обью или Печорой. Ее монастыри были деятельными, полными движения, занимались хозяйственными, политическими и учебными делами. Может быть, поэтому Европа так неохотно отступается, предпочитает рассматривать свое унижение как минутное попущение, не представляя себе – по крайней мере – своего будущего в сдержанности и суровости. Многим ее гражданам наверное дано испытать то, что испытал Пьер Безухов: пожатие руки, слово товарища по тюремной камере преодолевает чуждость и враждебность, снова возносит человека высоко, и «прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе».
Говорящая тут, в этот период возвращения к здоровью, традиция с удвоенной силой навязывает свои формулировки, навязывает свой язык. Демонические элементы человеческой природы широко учитывались в западном христианстве. С того момента, как отдельная личность вырывалась из-под опеки Церкви и вверялась своим силам, от нее всего можно было ожидать, и величайшее зверство было в глазах католика понятным результатом врожденной порчи. Поэтому человек, продолжающий традиции западного христианства, лучше подготовлен к выходу из неверия, в которое его загоняет подлость. Кризис у него не такой острый, антитоксины действуют быстрей и успешней. Несмотря на дно, которое иногда приоткрывается, он упрямится в сохранении надежды и постоянно ожидает братства людей – с помощью подавления этого дна и обуздания биологических инстинктов.