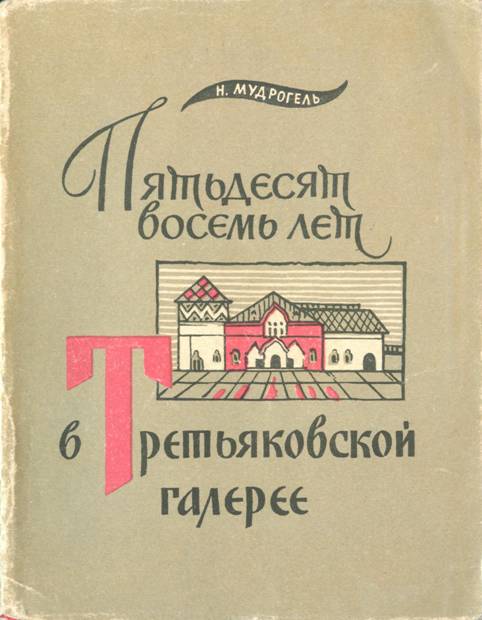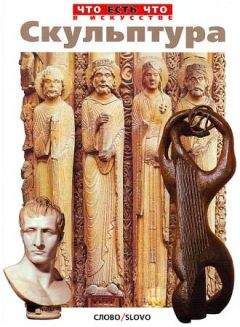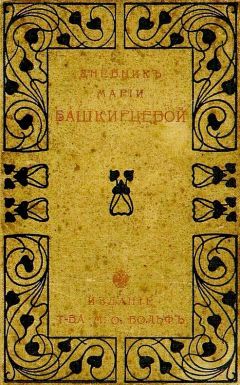и Н. В. Орлова. [100]
Мне легко было узнавать знаменитых людей, бывавших в галерее, потому что портреты их висели у нас же. А Льва Николаевича я видел и у него дома - в его рабочем кабинете.
Помню Чехова, [101] как он, улыбаясь, постоял с полминуты перед своим портретом и ушел поспешно. И Григоровича помню.
Н. Н. Дибовской. Притихло. 1890.
И. Э. Грабарь. 1900-е гг.
Помню также нашего великого ученого Павлова; он приходил к нам уже старый, и за ним по всей галерее носили стул. Сядет перед какой-либо картиной и смотрит долго-долго.
Знаменитого нашего путешественника Миклуху-Маклая помню - бородатый такой, быстрый. Это было еще в 80-х годах, галерея только зачиналась. Он обошел залы два раза, с ним ходила но галерее семья Третьякова.
Нансена помню, - это было уже в советское время: он приезжал для оказания помощи голодающим Поволжья и заходил в галерею. [102]
Лет тридцать пять назад однажды в галерею пришел высокий сутулый человек в русских сапогах, с длинными волосами, зачесанными со лба назад, по виду рабочий. И с ним бритый, тоже высокий, гражданин в сюртуке. Слышу публика зашептала:
- Горький, Горький! И Шаляпин! Как раз оба они тогда были в начале славы. Наши посетители стали смотреть не столько на картины, сколько на них. Алексей Максимович бывал потом - и до революции, и после революции. Любил он нашу галерею.
Артисты Московского Художественного театра бывали часто все: Качалов, Москвин, Книппер-Чехова, сам Станиславский. Очень мне было интересно видеть их у нас потому, что я хорошо знал их по сцене.
Теперь-то каждый отдельный человек тонет в массе посетителей. Теперь стали часто бывать группы представителей разных народностей нашей страны. Иногда приходят в национальных костюмах узбеки, таджики, черкесы, калмыки, киргизы…
Во время лета иностранцы тоже бывали, некоторые осматривали галерею очень внимательно. И вот я заметил: некоторые иностранцы особенно интересуются отделом нашей древней живописи - иконописью. Андрей Рублев и Прокопий Чирин [103] привлекают сильно их внимание.
Но некоторые иностранцы осматривают галерею так, будто отбывают какую-то повинность; пробегут бегом, потом - в автомобиль и назад. Чаще всего большими группами приезжают американцы. А то иногда приедет целая экскурсия на автобусах, но некоторые даже из машин не вылезают.
Не так осматривают наши советские люди. Почти всегда с руководителями, серьезно, основательно. Профессиональные организации Москвы и многих других городов ставят в свою программу работ непременное посещение нашей галереи. И вот видишь, идут рабочие, работницы фабрик и заводов, идут пожарные, милиционеры, дворники, кондуктора трамваев, домашние хозяйки. Красноармейцы приходят отдельными командами. Как радовался бы Павел Михайлович Третьяков, если бы видел галерею теперь.
Пятьдесят восемь лет я работаю в галерее, и по пальцам можно пересчитать дни, когда я не был в галерее за эти долгие годы. Картины я вижу изо дня в день, и они для меня стали самыми близкими. Ни родных, ни жены, ни детей у меня нет. Дом мой - галерея, и самые близкие мои - картины. И очень я люблю тех, кто приходит смотреть картины в нашей галерее. Почти о каждой картине я мог бы рассказать историю ее жизни, особенно о тех картинах, которые были приобретены самим Третьяковым. Картины, как и люди, неповторимы: каждая имеет свой путь, свою судьбу, как живое существо.
Картина рождается, живет, умирает. Позвольте, я вот расскажу жизнь одной картины. Вы ее все знаете: это - «Иван Грозный и сын его Иван» художника Ильи Ефимовича Репина.
Это еще в начале моей работы было, в 1884 году. Павел Михайлович Третьяков приехал из Петербурга очень довольный.
Однажды во время утреннего обхода Павел Михайлович говорит:
- Купил я у Репина большую картину. Не знаю, куда повесить. По-видимому, придется еще пристройку делать - новые залы нужны. А картина - «Иван Грозный и сын его Иван».
Обыкновенно так было: Третьяков покупал картины у художников прямо в мастерской, потом художники выставляли их на передвижной выставке, а после выставки картина уже поступала в Третьяковскую галерею.
В начале 1885 года в Петербурге открылась выставка передвижников, и на ней самая выдающаяся картина была именно репинский «Иван Грозный». О картине много тогда писали газеты и много разговоров было. Третьяков ездил на открытие выставки и вдруг вернулся мрачный, тревожный. Картина сильно не понравилась правительству и высшим чинам.
- Эта картина - оскорбление царя! Это - цареубийство!
Третьяков очень беспокоился, как бы картину не уничтожили. Но вот в марте выставка передвижников из Петербурга была перевезена в Москву. И «Грозного» привезли. Однако московские власти запретили показывать картину народу. Она была снята с экспозиции перед открытием выставки. Третьяков тотчас взял картину к себе. С очень большим нетерпением мы открывали ящик с картиной - столько мы о ней уже слышали. А картина, конечно, и нас поразила. Третьяков очень был доволен, что «Грозный» наконец у него. Он намеревался выставить ее в галерее для всеобщего обозрения. Но власти тотчас прислали ему приказ: картину для публики не выставлять. Волей-неволей мы поместили ее в отдельной комнате, закрытой для посетителей. Когда выставка передвижников открылась в Москве, все тотчас бросились искать «Грозного». А картины нет. Многие знали, что ее купил Третьяков. Приходят в галерею - ее и здесь нет. Павел Михайлович приказал нам ничего публике не говорить. А нас ежедневно сотни раз спрашивают: «Где картина?» Мы же только плечами пожимаем. По Москве пошли самые дикие слухи: картина сожжена, картина изрезана… Так весну и часть лета картина была заперта у нас.
В середине июля московский генерал-губернатор известил Павла Михайловича, что запрет с картины снят, ее можно выставлять. [104] Ну, у нас целое торжество было. Как раз поспела и пристройка, картину мы выставили в новом зале, во втором этаже. Вся культурная Москва хлынула к нам. Посетителей стало, как никогда прежде!
И с тех дней перед картиной всегда толпа посетителей. Она да две картины Сурикова - «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» - пожалуй, самые любимые картины нашей галереи.
Никогда мне не забыть того дня, когда в январе 1913 года душевнобольным Балашовым эта картина была изрезана.
В обычное время - в десятом часу - я уже был в галерее, прошел по залам, посмотрел, все ли в порядке. Без пяти минут десять все служащие уже стояли по своим местам.