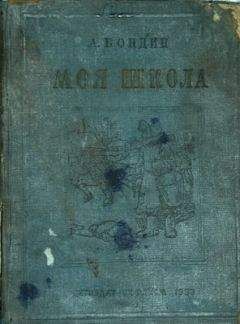— Куда они с такой силой? — крикнул кто-то возле меня.
Я в ужасе прижался к стене. Над головами воющей толпы поднялось несколько жердей, мелькнула железная лопата и упала на голову полицейского. Он, как куль, свалился с лошади. Двое полицейских умчались в переулок.
А мимо нас проскакала лошадь третьего полицейского, волоча своего седока по земле. Лицо его было залито кровью.
— Получил, фараон! — крикнул кто-то.
— Собаке — собачья смерть!
В это время над толпой поднялся человек в красной рубахе, без шапки. Он плыл над головами серой толпы, размахивая руками, и кричал:
— Товарищи!.. Господа общественники! Не надо громить!
Из ворот выносили на руках людей.
— Вот они, выборные-то!.. Значит, они здесь были посажены! — крикнул кто-то возле меня.
Но в это время толпа разом отхлынула от дома и торопливо потекла в переулок.
— Должно, солдаты.
— Пристав-то, говорят, солдат уехал встречать на вокзал.
— Ну, значит, теперь будет потеха.
— Алешка, айда солдат смотреть! — крикнул мне Попка Думнов.
Мы побежали, обгоняя людей, к вокзалу, деловито, как на пожар.
На углу стоял толстый человек в енотовой шубе. Он махал тростью и кричал, провожая злобным взглядом людей:
— Идите, идите, хамы! Там свинцовыми орехами вас угостят.
У чугунного памятника стоял большебородый мужик в собачьей куртке и, размахивая руками, как медвежьими лапами, кричал:
— Даром вам это не пройдет! Бунтовать против царя!.. Вам не дозволят!..
От вокзала торопливо шли люди. Их спрашивали:
— Ну, что там?
— Идут солдаты…
— Много?
— Полка два…
— Степа, пойдем, я боюсь! — держа за рукав мужа, кричала молодая женщина, а он, надвинув шапку с ушами до самых глаз, упрямо шел вперед и сердито говорил:
— Ты иди домой, а я не пойду.
Я смотрел с горы в глубь прямой широкой улицы. Почти до самого вокзала кипели пестрые потоки людей. Вдали двигалась неясная, серая стена людей, над которой жесткой щетиной покачивались штыки. До моего слуха донеслись звуки барабана:
— Трум-ту-ру-рум, трум-ту-ру-рум, тум-тум-тум…
Эти звуки пробуждали предчувствие чего-то страшного, тревожного, несущего тяжесть смерти. Они приближались все ближе и ближе, вылетая из самой гущи серой солдатской массы. Люди молча стояли и смотрели туда же, куда смотрел я. Барабан точно сковывал своей стукотней их уста. Губы у людей плотно сжимались, а в глазах светились страх и ненависть.
Меня кто-то схватил за плечо и, втолкнув в толпу, сердито проговорил:
— А это стадо так везде и шмыгает. Марш отсюда!
Я оглянулся. На меня смотрело добродушное, но строгое лицо дяди Феди. Я вырвался из его рук и протискался вперед.
Посредине улицы, впереди стройно идущих солдат, ехали конные полицейские, Они грозно кричали, помахивая нагайками:
— Раздайся!.. Расходись!.. Дай дорогу!.. Сейчас огонь откроют.
Возле меня кто-то злобно процедил сквозь зубы:
— Эх, фараоны, ожили, гады!..
Народ жался по сторонам, провожая солдат. Они — все в серых шинелях, в больших широконосых сапогах, в фуражках с красными околышами, без козырьков. Впереди шел офицер в светлосерой шинели, с саблей наголо. Офицер щеголевато повертывался и командовал:
— Ать, два, три, четыре…
У него было чисто выбритое лицо и разглаженные усы. Щетина штыков, плавно покачиваясь, плыла на фоне серого зимнего дня — тусклая, холодная, острая.
Вдруг в передних рядах затянул тощий тенор:
Надоело нам, ребята, Лето в лагерях стоять…
Дружный хор голосов покрыл запевалу:
Э-эх-эх-ха,
Черная галка,
Чистая полянка.
Ты же, Марусенька,
Черноброва,
Что же не ночуешь дома?
Лето в лагерях стоять,
Поутру рано вставать,
Э-эх-э-ха-ха,
Черная галка…
Но вдруг за перевалом горы первые ряды солдат точно во что-то уперлись. Мне не было видно, что там происходило. Я видел беспокойное движение, и до меня доносились странные глухие удары и вой сотен голосов. Народ хлынул в ту сторону. Меня стиснули в толпе и подняли. Не касаясь ногами земли, я поплыл куда-то в сторону. Вокруг меня кричали, ругались, стонали, плакали.
— Расходись, ребята, не то и нам попадет!
— Ой, батюшки, отпустите рученьку!
Я напрягал все силы, чтобы высвободиться. Мелькнула страшная мысль: «Сейчас растопчут». Я ухватился за чью-то ногу в плисовой широкой штанине, обнял её руками выше коленки.
Вдруг кто-то ударил меня по голове. Не помню, как я вылетел из толпы и, как мяч, нырнул в глубокий сугроб снега. По переулку, толкая друг друга, торопливо бежали люди, а за ними во весь опор мчались конные полицейские. Крики, брань, удары плетей, женские вопли — всё смешалось в непрерывный гул.
Домой я пришел уже вечером, когда стемнело. У меня саднили коленки и ломило плечо, но я молчал. Александр сердито спросил:
— Где был?
— Солдат смотрел, — стараясь говорить спокойно, ответил я.
— А тут о тебе, дураке таком, беспокоятся.
Вошла Ксения Ивановна.
— Вот он — явился, — сказал ей Александр, указывая на меня, — никуда не девался.
Ксения Ивановна радостно взглянула на меня и, улыбаясь, проговорила:
— Ну, слава богу… А я уж думала — бог знает, что с тобой… Поесть, поди, хочешь? Иди, поешь…
Она налила мне чашку молока и отрезала ломоть свежего хлеба… Я с аппетитом принялся есть, рассказывая всё, что видел за день.
На другой день, под вечер, к нам пришел Павел. Он ни разу еще не был у нас.
— Дома брат?
— Дома, проходите… — приветливо встретила его Ксения Ивановна.
Я обрадовался, подошел к Павлу в темной передней и поздоровался, а он, ласково коснувшись моего плеча, сказал:
— Что к нам не ходишь? Не велят, что ли?
Вошел Александр, недружелюбно проговорил:
— Здравствуй, Павел Петрович! Что скажешь?
— Да не с добрыми вестями пришел.
— Что так? Проходи.
— Ноги-то у меня грязные. Я прямо с работы, дома еще не был.
Давай, хоть здесь поговорим.
Он прошел в кухню и присел к столу.
— Сейчас только из волости, вызывали… недоимки требуют… У тебя старшина не был? Сам ходит по дворам, взыскивает…
— У меня денег нет, — холодно проговорил Александр.
— Я к тебе не за деньгами пришел. Мне не надо, я сам за себя заплачу. За отца требуют.
— За отца?
— Да, за отцом недоимки нашли; за покойным… А вот его податная книжка. В ней всё записано. Всё, до копейки уплачено… А они грозят. «Если, — говорят, — не заплатите — пороть…»