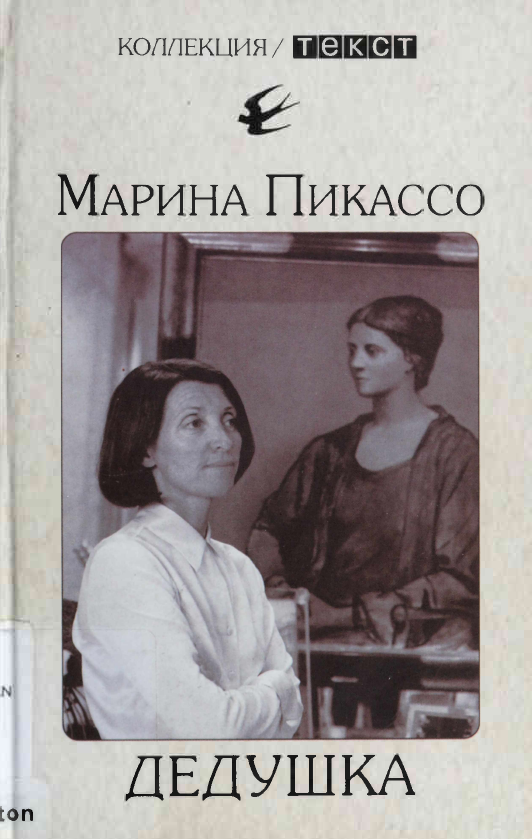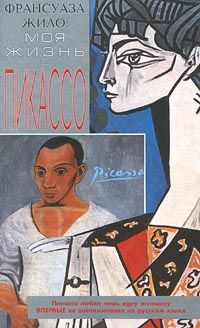одна только его живопись, те страдания и то счастье, которые она ему приносила. Быть ее верным слугой и выходить из повиновения, как только удавалось овладеть мастерством, — для этого все средства были хороши. Так же как он выдавливал тюбик с краской, чтобы посмотреть, как будут переливаться цвета, он, не смущаясь, выдавливал и тех, кто жил в надежде поймать хоть один его взгляд. Он любил детей за пастельные тона их невинности, а женщин — за плотоядные сексуальные импульсы, которые они в нем пробуждали. Ему надо было, чтобы свою загадку они вывернули перед ним наизнанку. Любитель свежей плоти, он насиловал их, расчленял и пожирал. Мешая кровь со спермой, он превозносил их в своих картинах, приписывая им собственную жестокость, обрекая их на смерть, едва только внушенная ими сексуальная сила ослабевала в нем. С одинаковым сладострастием он занимался и живописью, и сексом. И тем, и этим он пытался победить в себе влечение, страх и презрение, которые испытывал к Женщине и к женщинам. Он считал их разносчицами смерти. Владыка своего мрачного царства, он мучил их в своей мастерской по ночам. Они должны были быть милы, покорны, податливы. И тогда он, как тореро, наносил им раны своей кистью до полного их изнеможения. Выпады кистью голубой, оранжевой, светлых тонов, и казнь красной, гранатовой, черной, цветов полыхающих. Они были его жертвами. Он был Минотавром. Кровавые и непристойные корриды, из которых он всегда выходил в сиянии победы.
Все, что не имело отношения к этой алхимии зла, не интересовало его. Все те, кто избежал его прожорливости или не был ее объектом, оставляли его холодным как мрамор. На его кладбище забвения — ни креста, ни благодарности, ни сожаления. Женщины, друзья, дети, внуки — не важно: он приносил их всех в жертву своему искусству.
Он был Пикассо. Он был гений.
Гений не имеет жалости. Она может повредить его сиянию.
Жаклин тенью проскальзывает в комнату. Подойдя к отцу, она шепчет ему что-то на ухо. Мой отец скорбно качает головой и поворачивается в нашу сторону.
— Марина, Паблито, — восклицает он патетически, — пора уходить. Пабло нужно побыть одному. Вы утомили его.
Мы утомили его, хотя он не соблаговолил уделить нам ни секунды внимания, ни капельки уважения, ни грамма заинтересованности.
Визит окончен. Безропотно мы идем следом за Жаклин к дверям святилища, в котором только что получили от дедушки благословение безразличием. В который раз мы не смогли объяснить ему, кто мы такие на самом деле. В который раз мы чувствуем себя обманутыми. Обманутыми и брошенными. Жаклин оставляет нас на ступеньках крыльца. Криво улыбаясь, она трясет нам руки и опрометью бежит к своему Солнцу.
— Я иду… иду! — пискляво кричит она, устремляясь в глубину дома с закрытыми ставнями. — Я иду, Монсеньор!
Сама мысль о том, чтобы оставить своего палача хоть на мгновение, вселяет в нее ужас. Без него она как рыба, которую вытащили из воды.
Я отказываюсь жить в таком убожестве. Я больше не хочу насилия одних, малодушия других, не хочу терпеть деспотизм тирана, который решает, какой должна быть моя жизнь и жизнь Паблито. Я хочу свободы, хочу дышать кислородом. Я хочу вырваться из этой семейки.
— Паблито, нужно искать работу.
— На кой черт. Сама знаешь, что из этого не выпутаться. Мы Пикассо.
Словом, остается только молча страдать.
Я не хочу больше страдать, я решила. Я хочу стать независимой, сказать судьбе «нет».
Летом на Лазурном берегу открывается множество лагерей для детей, родители которых заняты на работе. Я записываю их адреса, шлю свое резюме: «Бакалавр, серьезная и порядочная, ищет место воспитателя». Получаю ответ, и вот мне приходится представиться:
— Ваше имя?
— Марина Руис Пикассо.
— Дочь?
— Нет, внучка…
— Ах, внучка!
Что обо мне думают эти люди? Девушка с характером, бросающая вызов собственной семье? Богатенькая норовит вырвать последний кусок у бедняков?
Быть Пикассо и искать, где бы подработать? Что за наглость! Как ей не стыдно! Какое презрение к другим!
Делать нечего — приходится сказать правду. Запинаясь, разумеется:
— Я люблю детей, и попозже, когда закончу медицинский институт, я хотела бы посвятить себя им. Если вы соблаговолите меня принять и оказать мне доверие, я сделаю все возможное, чтобы быть вам полезной.
Всегда и во веем лавировать, прижиматься к стенке, пытаться стереть родовое клеймо Пикассо, выслушивать саркастические замечания, гнуть спину на всяческих грязных мелких заработках, всюду стараясь понравиться. Нет, не начальникам, принимающим меня на испытательный срок, а детям, которые позволяют себя приручить и рассказывают мне о своих мечтах:
— Когда-нибудь я увезу маму в кругосветное путешествие. Мы не расстанемся.
— Когда-нибудь я научусь управлять локомотивом. Я стану железнодорожником, как папа.
Эти «когда-нибудь» полны надежд. «Когда-нибудь», которые терзают мою душу.
У меня нет никакого «когда-нибудь».
Этим летом все изменилось. В детских лагерях работы нет, зато нашлась временная работа в отделе бюро почтовых и телекоммуникационных связей Гольф-Жуана. Моя роль — доставлять телеграммы горожанам и отдыхающим; работа эта наполняет меня гордостью.
— У вас есть на чем ездить? — спрашивает меня принимающий на работу сотрудник, которому я называю себя.
— Да, конечно!
Я лгу, но лгать тоже нужно уметь. Я должна хорошо закрепиться на этой работе, тем более что согласились нанять и Паблито — сортировщиком почты, которая в этом сезоне приходит большими тюками. Бегом к продавцу велосипедов, я объясняю ему, в чем дело. Он соглашается продать мне в кредит «солекс». Первый взнос в конце июня, расчет — в начале октября. За испрашиваемую цену он, разумеется, проверит тормоза, поменяет ролики в моторе и отремонтирует переднее крыло. По рукам! И вот свершилось — я могу претендовать на звание телеграфиста, а Паблито становится служащим почтового отделения и совладельцем подержанного «солекса».
С толстой сумкой на ремне я объезжаю городские улицы, звоню в решетчатые двери, кричу в домофоны:
— Вам телеграмма!
Этим великолепным летом телеграммы, приносящие несчастье, редки. Обычно они возвещают о приезде родных, о чьем-то рождении, о событиях счастливых… и мне щедро дают чаевые, позволяющие сменить шины у нашего мопеда по имени Пегас.
И Паблито тоже счастлив. Он быстрее всех сортирует письма, раскладывает журналы, почту. Он чувствует себя ответственным. Щеки у него порозовели.
Каждую неделю мы отдаем все заработанное матери. По-нашему, это нормально. Надо иметь чувство локтя.
Мы и одежду всегда покупали, только посоветовавшись с ней, не помню, чтобы было иначе. Моего кутюрье — и кутюрье Паблито — звали «Призюник» [7].
Короткой юбки, хлопчатобумажной блузки, футболки