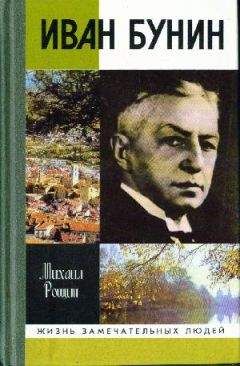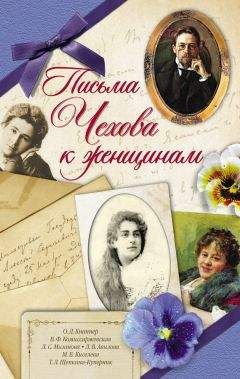Бунин не изучал, подобно Пастернаку, философии в Москве и Марбурге, вообще мало теоретизировал, — его наитие, природный дар сами вели его верным путем: не игра в форму, не замена условностью реальности, а поиск простоты, искренности, поиск «метафоры в природе», переход от «приемов» и рутинных принципов в прозе ко все более открытому, «очерково-дневниковому авторскому „я“» вместо нагружения этим авторским «я» измышленных героев, искренность и исповедальность поэта — вот его путь в прозе. Можно только дивиться тому, как устроен был его чувствующий аппарат, — постичь этого все равно не дано: тайна.
В статье Иосифа Бродского «Поэт и проза» есть слова: «Отбрасывание лишнего, само по себе, есть первый крик поэзии — начало преобладания звука над действительностью, сущности над существованием: источник трагедийного сознания».
Бунин краток не ради краткости, а оттого, что в жизни, если вглядеться, все кратко, мимолетно, мгновенно. Он часто отсекает начало «истории» и как бы с конца начинает, с финала, потому что знает эту жизненную обычность: стянуть все в последний узел, к последней точке, — а все нагроможденное до того, сама эта «история» мало обязательны для искусства, для поэзии.
Еще из статьи Бродского, опирающегося в основном на прозу Цветаевой: «Со дня возникновения повествовательного жанра любое художественное произведение — рассказ, повесть, роман — страшатся одного: упрека в недостоверности. Отсюда — либо стремление к реализму, либо композиционные изыски. В конечном счете каждый литератор стремится к одному и тому же:,настигнуть или удержать утраченное или текущее Время. У поэта для этого есть цезура, безударные стопы, дактилические окончания; у прозаика ничего такого нет. Обращаясь к прозе, Цветаева вполне бессознательно переносит в нее динамику поэтической речи — в принципе, — динамику песни, — которая сама по себе есть форма реорганизации Времени… какова бы ни была тема повествования, технология его остается той же самой. К тому же повествование ее, в строгом смысле, бессюжетно и держится, главным образом, энергией монолога».
Как нельзя более, кажется, относится это и к бунинской прозе: несомненны ее монологичность и неповторимость интонации, — музыка его прозы.
И еще одно соображение Бродского: «…дело в различиях между искусством и действительностью. Одно из них состоит в том, что в искусстве достижима — благодаря свойствам самого материала — та степень лиризма, физического эквивалента которому в реальном мире не существует. Точно таким же образом не оказывается в реальном мире и эквивалента трагическому в искусстве, которое — трагическое — суть оборотная сторона лиризма — или следующая за ним ступень».
Весьма подходит тоже Бунину! «Реалист» Бунин, обладающий чувством и проникновением в космическую цельность мира, отказывается от его линейности, прямолинейности: его художественный мир отрывочен, фрагментарен, эпизодичен, высоко лиричен и столь же трагичен: покоя и порядка в нем нет.
Мы уже говорили, он писал рассказы как стихи: на выплеск, сжато, точно, на одном дыхании.
Читатели и критика изрядно удивлялись (да и писатели тоже), когда видели, что Бунин часто печатает свои вещи в символистских изданиях — «Золотое руно», «Перевал», «Корабли», «Факел», «Гриф», «Шиповник». При том, что одни хвалили его за «модернизм», другие — за верность традициям. И ругали, соответственно, — за то же.
Самого Бунина это не смущало. Он дело делал.
Стиль Бунина всегда узнаешь и ни с кем не спутаешь. Напряжение, высокая нота его фразы, особые сложносоставные эпитеты, пристрастие к оксюморону (холодный пламень, горячий лед и т. п. — несовместимость, сшибка противоположных понятий, дающих неожиданный эффект) — таковы его отличия. Кстати, об этом много и подробно сказано в одном из лучших исследований о писателе — книге Юрия Мальцева («Иван Бунин», Посев, 1994).
Другое дело, что он не впадал в отчаяние декаданса, не фантазировал на темы то прошлого, то будущего, то потустороннего, не уходил от жизни в чистое искусство, в условность, в чистую форму. Он просто писал по-своему, и это уже было ново, странно, непривычно. Он с младых ногтей занят был тем, как писать, — какие же еще нужны искусственные поиски? Его форма рождалась всегда слитно с содержанием, образуя единый сплав, один стиль.
Он слышал музыку времени, — она была иной, чем прежде.
Бунин сжимает и сжимает прозу: «сгущенный бульон» уже кажется ему не так крепок, он свивает слова в пружину, он приходит к самоценности всего одной фразы, к емкости назывных предложений, к самодостаточности блестяще исполненного фрагмента. Является многозначность подтекста, как у более поздних писателей нового века. Прорывается то и дело почти киношный, сценарный стиль. Характеристики, портреты все суше, строже. Давно отставлены в сторону «за-вязка-кульминация-развязка»; никаких экспозиций, лишних описаний. Рассказ может начаться с финала, автор — перейти в «я» героя или, наоборот, писатель сосредоточен на мысли, на самом главном, говорит как бы только сам с собою, мало заботясь о бегущем за ним вниманием читателя. Так впоследствии будет писать Фолкнер. Из друзей-противников — только Сологуб, Мандельштам, Пастернак. Позже — Булгаков, Платонов, затем и многие из советских писателей.
Конечно, это совсем новая проза. Отчего же Бунин так сердит на декадентов, не сходится с ними, злится?
Он движется своим путем, — как убежден, самым верным. То, что он делает, — не формалистика, не игра в литературу, не подмена реальности лишь отображением представления о ней, он хочет быть правдивым до конца, реалистом до конца, ему не до фокусов. Поэтому он суров и строг. Он рыцарем стоит на страже русского стиха, ненавидит все эти «дыр-бул-щир».
Между прочим, в «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой (еще не раз придется обратиться к нему) есть такое место о стихах Ивана Алексеевича: «…изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры, и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства… Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнажения души…»
Вероятно, это дельное и близкое к истине замечание. Но неисповедимы пути творчества! — кто может знать, — и сам творец стихов не знает, — возможно, так предопределено было свыше: не обнажить душу даже в стихах, чтобы сделать это с огромной силой в будущей прозе! Писатель лучше знает свой путь, верит своему наитию, и — в конце концов выигрывает! А как и когда — не суть важно.