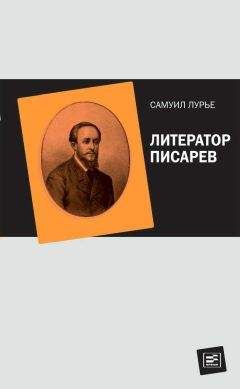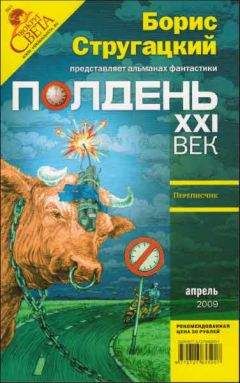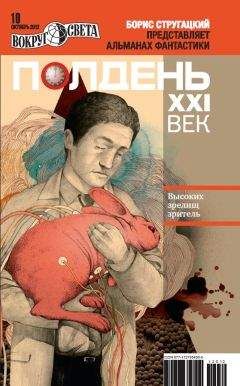И он ввел в библиографию «Рассвета» новый разряд рецензий. Каждая была размером в печатный лист. Каждая открывалась набором отвлеченных рассуждений — вроде того, что «Онегин, Печорин, Обломов воплотили в себе различные фазы болезни века, поражавшей лучших представителей прошлого поколения», или что «творчество с заранее задуманной практической целью составляет явление незаконное; оно может быть предоставлено на долю тех писателей, которым отказано в могучем таланте, которым дано взамен нравственное чувство, способное сделать их хорошими гражданами, но не художниками».
Затем следовала краткая формула идеи разбираемого произведения. «Обломов», например, написан об апатии, знакомой всем векам и народам и вызываемой отсутствием ответа на страшный вопрос: «Зачем жить? К чему трудиться?». Так сказать, байронизм слабых (это в пику Добролюбову, который выразился об Илье Ильиче, что это «коренной, народный наш тип»).
А «Дворянское гнездо» берет лучших представителей современной жизни и показывает нам, что в них есть хорошего и чего недостает, что следовало бы добавить и исправить.
И, покончив таким образом с теорией, Писарев приступал к самому главному: одного за другим представлял публике литературных героев. Впрочем, о читателях он почти забывал. Он сводил счеты с Паншиным, жалел о Лаврецком, упрекал Лизу, ставил ей в пример Ольгу Ильинскую, — словом, вел себя с персонажами так, будто сам был одним из них и, прежде чем писать статью, долго жил в чужом романе, а теперь вот сбежал из него.
Наступила осень, вернулись в город знакомые, начались лекции в университете. При первой же встрече с однокурсниками Писарев неприятно поразил их каким-то восторженным самодовольством. Он говорил очень громко, очень много и только о себе. Перебить его не было никакой возможности. Он подробно рассказывал об умственном перевороте, который пережил этим летом, об измене кузины, о ссорах в семье, а главное — о своем открытии, что никто никому не нужен, и человеку нечего терять, кроме собственной жизни, и некого — кроме себя. Он хвастал своим атеизмом, и будущей диссертацией, для которой перевел уже восемь песней «Илиады», и деньгами, которые доставляет ему журналистика: в этом году он сам (не дядя-взяточник!) внес деньги за учение и все-таки нисколько не бедствует. Он ссылался беспрестанно на Трескина, но тот прятал глаза и помалкивал. Ему, как и остальным, совестно было слушать, откровенность Писарева выглядела нескромной и нелепой. Как-то уж больно пылко влюбился Митя в самого себя и слишком часто повторяет, что чья угодно гибель ему нипочем. Сомнительна и вся история с диссертацией, хотя, конечно, греческий он знает превосходно и работает как одержимый. Но эта невозмутимая, бесцеремонная самоуверенность, как ни странно, делает его беззащитным, почти жалким, он даже не видит, что над ним смеются.
На самом деле Писарев хорошо заметил впечатление, которое произвел на товарищей; тем больше нравилось ему дразнить их: ему казалось, они ненавидят его, потому что завидуют.
Никогда еще не был он так одинок. Лишь от дяди Андрея Дмитриевича приходили пространнейшие письма: дядя плакал о своей зря пропавшей жизни, называл себя лишним человеком и проклинал Раису.
А Варвара Дмитриевна, которую брат познакомил с теми отрывками из Митиных писем, где говорилось, что и смерть матери — не самая страшная беда для мыслящего человека, прислала сыну короткую, горькую записку и замолчала.
И теперь уже никто в мире не любил Митю Писарева.
Повсюду — в университете, на улице, в доме у Трескиных — люди смотрели на него с выражением мрачной злобы и улыбались фальшиво, и голоса их звучали глухо и отдаленно. К тому же что-то случилось со временем: часы тянулись мучительно медленно, зато целые дни и даже недели пропадали бесследно, так что календарь все время лгал — как у Фамусова! — и поневоле приходилось вспоминать ту лукавую книжку Новосильского: может, и правда, время не существует, мир не таков, каким представляется. Вот Нева, такая холодная, тяжелая на вид, и закат, и октябрь, а ведь это все обман и декорация, поддельное все, как любовь Раисы к этому Гарднеру, как усмешка Коли Трескина, когда он говорит, что денщик ворует у адмирала книги. Все притворяются; отвернись — подстерегут и набросятся разом, и задавят, как червяка.
Ему было очень страшно.
«Он вообразил, — напишет впоследствии Скабичевский, — что под видом якобы денщика Трескин подозревает в краже книг не кого иного, как его, Писарева, и что все товарищи учредили над ним тщательный надзор, чтобы поймать его на месте преступления, и решились уничтожить его без суда и следствия, зарывши в землю живым».
Голова болела. Писарев больше не бродил по улицам — вообще не выходил из дому, сидел за столом неподвижно, уставясь в окно, на дождь, и сжимая голову руками. О пресловутой своей диссертации он думал теперь с отвращением и тоской, работа эта представлялась ему такой же бессмысленной и безнадежной, как два года назад — перевод из книги немецкого философа; он не верил уже в свою гениальность. Не верил ни во что.
В ужасе он написал Варваре Дмитриевне:
«Я стал сомневаться и наконец совсем отвергнул вечность собственной личности, и потому жизнь, как я ее себе вообразил, показалась мне узкою, бесцветною, холодною. Мне нужны теперь привязанности, нужны случаи, в которых могли бы развернуться чувства и преданность, нужно теплое, разумное самопожертвование, над которым я так жестоко смеялся несколько дней тому назад… Я нахожусь теперь в каком-то мучительном, тревожном состоянии, которого причин не умею объяснить вполне и которого исхода еще не знаю… Мама, прости меня, мама, люби меня!»
Он порвал диссертацию. Сжег портрет Раисы и ее письма. Он уже не сомневался, что его ждет позорная гибель, и не хотел навлекать подозрений на бывшую свою невесту.
«Ради бога, мама, прости меня, напиши ко мне, — взывал он. — Ты бы пожалела обо мне, друг мой мама, если бы знала, как я жестоко наказан за свою самонадеянность, за свой грубый эгоизм. Я сам себе противен, потому что вижу, что, когда мне везет, я подымаю голову, когда является несчастье, я падаю духом и прошу утешения у всех, кто меня окружает. Так случилось теперь. Пока ты была нежна со мной, я не понимал и не ценил тебя, увлекаясь разными личными видами и планами, которым, вероятно, никогда не сбыться… Теперь, когда ты решительно отказалась от меня, отталкиваешь меня, мне делается так страшно и больно. Я начинал к тебе четыре письма и ни одного не решился отправить: в каждом из них слишком мрачно выставлялись мои опасения за себя и мой взгляд на будущее…»