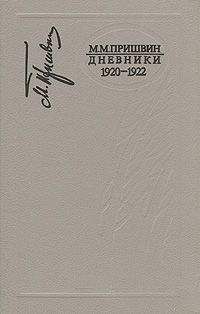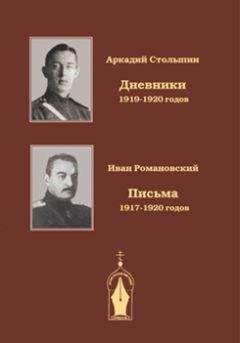Но тем не менее на следующий день он действительно окликнул меня:
— Откуда, старший сержант?
Я ответил.
— А до этого где служил?
Сказал про школу в Коломые, про Харьков, про 92-й отряд, про 9-ю заставу.
— Знаю, знаю этот отряд, встречал. Лихо дрались. Вот только начальнику отряда и комиссару не повезло, и Тарутин и Уткин погибли. Слыхал такие фамилии?
— Слыхать-то слыхал, но ни разу не видел.
— В районе Умани они с частями двух наших армий в тяжелейшую обстановку попали. Тебе, брат, повезло. Крепко повезло. А здесь-то ты чего? На курсы прислали?
— Да, на курсы, а вы тоже? Нас учить будете?
— Нет, я сюда на время. Фронт пока в резерве держит. Должен назначение получить. Ну, давай, пограничник, учись. Может, встретимся. Соломатин моя фамилия. Запомнишь?
— Запомню, товарищ подполковник.
В Челищеве мы пробыли недели две, ничем не занимались, отдыхали, «разговоры разговаривали», письма писали.
* * *
Письма… В наш век эпистолярный жанр существенно умалил свое значение в общении людей. Просто телефоны, радиотелефоны, вплоть до спутниковых, просто телеграфы и факсы, Интернет… А что в те годы могло заменить письмо, быть дороже письма? Письма из дома, от родных, от любимой. Или наши письма там, в тылу, с обратным адресом «Полевая почта…», сложенные треугольником, без марок, но с обязательным штампом «Просмотрено военной цензурой». Что могло быть дороже?
Как ждали писем мы на фронте, порой не имея возможности даже адреса своего сообщить. А все равно ждали, ждали как чуда. Как сообщишь? Кто его знает, адрес вот этой самой «полевой почты №…» надолго ли? А если ранят, а если в другую часть?
А сколько наших писем, да и не только наших, а и к нам идущих, сколько мыслей и слов в них были в клочья разорваны? Снаряды, мины, бомбы полевые почты не миловали. Вот и думай: то ли адресатов с той или другой стороны уже в живых нет, то ли письма по дороге та же участь постигла.
Чудом за эти пролетевшие годы сохранилось десятка два моих фронтовых писем. Писаны они были в разные годы войны не только из разных мест, но и из разных стран. Но во всех этих пожелтевших и ветхих листочках жила одна мысль.
«…Вчера подучил твое письмо, написанное месяц назад. И мои письма идут так долго? Прав Лебедев-Кумач: «У писем моих непростая дорога, и ты не проси их ходить поскорей…»
Это из письма 1944 года, когда мы шли на запад.
А вот строчки из записной книжечки, написанные еще в 1940 году:
«Верочка пишет часто…», «Верочка пишет реже…» — это через месяц.
«От Веры давно не получал писем…», «…Писем давно не получал, как-то там мои?» — это июль 1941-го.
«Как хочется получить весть из дома, от Верочки нет писем более двух месяцев…» — это август.
А как-то в том же месяце пришло письмо с такой подписью: «..Люб. теб. Вера…» Очень спешила!
Тоска зеленая по письмам. А ведь больше всего ждал письма от любимой. Такова молодость. А уж потом от родителей, друзей, товарищей. Письма…
* * *
Ефремов. Городок небольшой, но ведь город! За год жизни в кочевых полевых условиях мы, честно говоря, соскучились по нормальному человеческому быту. А здесь снаряды и мины не летали, трассирующих светлячков не видели, да и слать можно раздевшись и на койке, а не на наспех сколоченных нарах, в каком-нибудь сарае.
Начались занятия. Все то, что нам рассказывали, чему учили, было совершенно новым, необычным. Помнится, даже поначалу думалось, не ошиблись ли товарищи доверять таким молодым работу такой государственной важности, доверять государственные тайны?
Что меня тогда поразило? Нам откровенно объяснили, что главным методом нашей работы будет работа с агентурой, с осведомителями. Об этом ведь нигде не писали… А здесь прямо говорили — вы должны подбирать людей среди военнослужащих, которые смогут вам при необходимости сообщать о каких-либо безобразиях. И не только среди военнослужащих, но и среди гражданского населения, в том случае, когда есть возможность такого общения. Нам говорили — это оправдано интересами безопасности государства, так принято, так нужно, таков порядок.
Нам объяснили, что существует определенное делопроизводство. Наблюдение за подозрительным лицом может начинаться с того, что вы получили о нем самые первые сведения, которые назывались «зацепкой». Это пока не обвинение в чем-то, а просто агентурная «зацепка». Такой вот термин. Если, по мере поступления дополнительной информации, вы чувствуете, что «здесь что-то есть» и нужно продолжать работать углубленно, *из «зацепки» это уже переводится в дело-формуляр. Это уже папка, куда кладутся очередные донесения. Вот такое делопроизводство. Безусловно, для меня все это было внове.
Другие предметы, которые нам давали на курсах, в памяти не сохранились. Видимо, потому, что азам криминалистики и других спецпредметов меня учили в погранвойсках. На нашем начальном уровне оперуполномоченных никаких шифров и кодов не требовалось. Вся моя последующая переписка, документы, которые я обязан был пересылать из полка в дивизию, были написаны от руки, запечатаны в конверте «секретно» и отправлялись с обычным нарочным, никакой фельдсвязи.
Было нас в группе человек тридцать, обычные военнослужащие, все постарше меня. Впоследствии никого из них я не встречал, потому что единственным с этих курсов попал в кавалерийский корпус.
Незаметно пролетели сентябрь, октябрь. В конце октября, сдав полагавшиеся зачеты, еще до присвоения офицерских званий мы прикрепили на петлицы по три «кубаря». Это было звание — младший лейтенант государственной безопасности. Это что-то стоило! Впечатление на нас это производило неповторимое! (Эх, молодость!)
— Хлопцы, вот интересно, два дня назад я, курсант, с петличками старшинскими, — говорил мой сосед по койке, — шел по улице и козырял направо и налево то лейтенанту, то майору, то политруку, а сегодня иду важно, а всякие там сержантики, старшины да лейтенантики меня приветствуют. Здорово, а?
Изменение нашего положения коснулось не только звания, а и денежного содержания. До этого я получал в месяц 25 рублей; а тут, в новом звании, сразу 500! 500 рублей! Снилось ли когда-нибудь такое? Теперь и родителям помощь будет, мне-то деньги ни к чему, тратить их не на что.
На одной страничке записной книжки сохранилась карандашная запись:
«3 октября 1942 года. Два года, как из дома. Начало, самостоятельной жизни. Могу помогать семье. Как это приятно/Почему-то нет писем. Что случилось? Итак, жизнь моя связана с органами, я — чекист. Госбезопасность моя работа. Мечты о дальнейшем — туман. Ясно себе представить не могу. А интересно узнать, что будет дальше. Жизнь дает много интересного, о чем приходится крепко ломать голову. Да, жизнь интересная штука!»