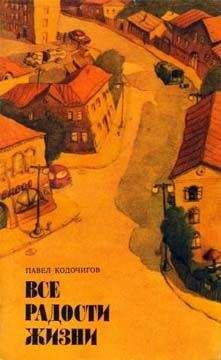— Да…
— Теперь расскажите суду, какой дорогой вы вернулись на ферму после того, как лошадь испугалась гармошки.
Белозеров стал объяснять, а судья — Камаев отлично слышал это, — набрасывал новую схему.
— И еще один вопрос, Белозеров, — Камаев едва не назвал его просто Володей. — Когда ты ехал на ферму, тебе никто не попался из знакомых?
— Не.
— Машина, может быть, какая-нибудь шла?
— Не.
— Мотоцикл, повозка, трактор?
— Никого не было. Я один ехал.
— Вопросов к Белозерову не имею, — сказал Камаев и неторопливо, чтобы не привлекать внимания, полез в карман за платком.
Он подверг подзащитного серьезному испытанию. Мог тот, не разобравшись в ситуации, почувствовать легкий путь к спасению — если видел трактор, значит, не он вел его, — и сказать: «Да, видел». И заврался бы!
Все оказалось элементарно просто: две параллельных улицы, вверху — Мира, внизу — Свободы. Они соединены тремя переулками имени Мира. В третьем, ближе к Сухоложскому тракту, почти у пересечения с улицей Мира, место наезда; внизу, на углу с улицей Свободы, дом Серегина; дом Белозерова — во втором переулке. Белозеров проехал мимо дома на улицу Свободы, затем свернул в первый переулок и по нему выехал в поле. Трактор шел другой стороной, потому подсудимый его и не видел. А вдруг я все-таки что-то не учел и мое представление ошибочно? Лучше, пока не поздно, уточнить, чем молоть чепуху в защитительной речи.
Не колеблясь больше, Камаев заложил схему в решетку, обозначил в ней первый переулок — он не был показан — и точками начертил путь Белозерова на ферму. Проверил еще раз и обратился к суду с просьбой.
— Я набросал новую схему, прошу посмотреть, правильна ли она?
Послышался шелест бумаги — судья сверял схему адвоката со своей, — и тут же его несколько удивленный голос:
— Все правильно, адвокат Камаев. Вы не ошиблись.
— Благодарю.
3.
Весь этот день на улице сияло солнце и стучала капель. К вечеру, однако, подморозило, вдоль домов на тротуарах образовались бугристые ледяные полосы. Снег почернел и осел, стал рыхлым и звонким. Порывистый ветер нес с собой влагу.
Анна Никифоровна вышла на крыльцо и зажмурилась — так сладко холонуло на нее после душного, наполненного людьми зала чистым воздухом, свежестью, что закружилась голова, и Анна Никифоровна оперлась на плечо сына.
— Скоро и огород копать, а семян у меня ныне мало, — подумала вслух. — Скворушки вот-вот прилетят… Люблю эту птицу — один поет, а будто целая стая! И работнички!
— Ты что, мама? Месяца два еще ждать.
— Все равно скоро. Я чувствую, — убежденно возразила Анна Никифоровна и спохватилась: — Эк, что весна-то со мной творит! О чем раздумалась!
— Тетя Нюра, айда скорей на автобус, чего мешкаешься? — позвали соседки.
— Идите. Мы пешком.
— Так темно уж.
— Ничего, глаза не выколем. Пойдем, Вовка, — позвала сына.
Распахнула жакетку и пошла, чувствуя, как распирает легкие морозный воздух, холодит внутри и вливает силы. Быстро пошла, как на работу. Да так оно и было. Надо печь истопить, корову накормить и подоить, заждалась, поди, хозяйку, бедная, ужин сготовить, в избе прибрать — да мало ли что еще подвернется под руку. Боль, досаждавшая все последние месяцы, отступила, Анна Никифоровна вновь почувствовала себя бодрой и сильной.
Завтра, поди, все и кончится, думала. Что тянуть-то? И без того все яснее ясного. Доведись до нее, так она бы и теперь насовсем отпустила Вовку, а Серегина и эту его Глотову — в каталажку, пусть бы там поворковали. И в самом деле, чего валандаться? В каждый перерыв подходили к ней люди, свои и совсем незнакомые, подбадривали, сочувствовали: «Крепись, тетя Нюра! Оправдают сына». Поняли, на чьей стороне правда, разобрались, так неуж судьи против народа пойдут? Не может того быть!
Так тешила и баюкала себя, все убыстряя и убыстряя шаг, пока сын не прервал ее раздумья:
— Ты куда бежишь, мама?
— Домой! Куда еще? — ответила резковато — сбил Вовка с радужных надежд, не вовремя сунулся.
Шаг, однако, поубавила. Что спешить? Теперь она все успеет и на все ее хватит.
Впереди, за полем, светились теплые огни поселка.
1.
Показания Серегина были предельно сжаты и полностью согласованы с показаниями собутыльника Глотова: да, утром выпили на ферме, пили вдвоем, без жены Глотова. Не хватило. Поехали за водкой на лошади, трактор остался на ферме. Выпили еще, прямо на телеге. Как и когда попал домой, не помню. Был сильно пьян. Нет, на мне в тот день были новые кирзовые сапоги.
На этом треволнения Серегина могли и закончиться: что тянуть жилы из человека, который ничего не помнит? И уже обнадежился он, и уже поглядывал безмятежно, и уже, оставшись в зале, с некоторым даже любопытством слушал показания других свидетелей: «Перемелется — мука будет», — решил Серегин и потому даже определение суда о выезде в Глубокое для допроса его жены выслушал спокойно: что от этого изменится?
Так думали многие. Недовольный говорок пробежал по залу: часа два-три проездят, сиди и жди, пока вернутся!
Решение допросить больную женщину Миронов принял скрепя сердце. Думал ограничиться оглашением ее показаний и, наверное, так бы и поступил, если бы не подтвердила в судебном заседании очень уж уверенно свидетель Панова, что бежавший от трактора мужчина был в старых яловых сапогах. «У яловых и голенища по-другому выглядят — гармошкой они, и подметка гладкая, не в шишечках, и каблук не такой». Если бы не удалось установить, что Белозеров яловых сапог не имел.
Миронов собирался провести допрос быстро, не очень уверенный в том, что больная могла запомнить, в какой обуви был в тот день ее муж. Но получилось иначе. Серегина заявила, что двадцать восьмого апреля муж уходил на работу в старых сапогах. Она запомнила это потому, что стаскивала сапоги, когда муж пьяный прямо в них улегся на диване. Сомневаться в справедливости показаний Серегиной не приходилось, и это был еще один сюрприз судебного заседания.
Пришлось провести дополнительный допрос Серегина. При жене он сказал, что был в яловых, без нее снова заговорил о кирзовых.
— Все утверждают, что вы были в старых сапогах. Почему вы так упорно отрицаете это? — начал выходить из себя Миронов. — Вы отказываетесь давать показания?
— Нет…
— Мы слушаем вас.
— Так… Ну как сказать?.. Ну, был в старых!
— Объясните суду, почему так долго приходилось добиваться от вас истины? Чего вы боялись?
— Я ничего не боялся, я… я стеснялся…