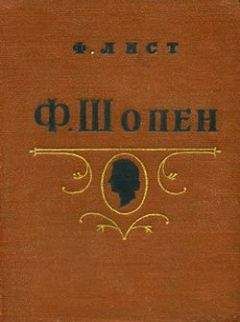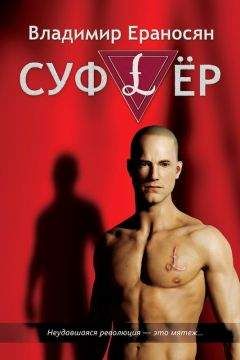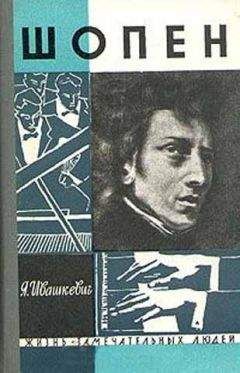В мазурках Шопена, очень многочисленных, царит чрезвычайное разнообразие мотивов и настроений. В некоторых слышится бряцанье шпор; в других можно в легких звуках танца уловить еле слышный шелест кисеи и газа, шорох вееров, звяканье золота и драгоценностей. Некоторые как будто рисуют мужественную радость, но вместе тревогу на балу накануне военного выступления; сквозь ритмы танца слышатся вздохи, прощальные слова, произнесенные слабеющим голосом, скрываемые слезы. В иных нам чудится тоска, страдания, огорчения, принесенные на празднество, шум которого не заглушает воплей сердца. Порой можно уловить подавляемые ужасы, опасения, подозрения любви – борющейся, снедаемой ревностью, чувствующей свое поражение, страдающей, но не унижающей себя проклятием. Там – неистовство и исступление, среди которого проходит и возвращается задыхающаяся мелодия, неровная, как трепет сердца, млеющего, разрывающегося, умирающего от любви. Дальше – возвращающиеся отдаленные фанфары, память былой славы. Бывают мелодии с ритмом таким смутным, таким трепетным, как бы двое юных влюбленных созерцают звезду, одиноко взошедшую на небесном своде.
Мы говорили о композиторе и его творениях, о бессмертных чувствах, звучащих в них; здесь его гений, то побеждая, то терпя поражение, вступил в борьбу с горем – этой ужасной стороной действительности, примирить которую с небесами является одной из миссий искусства; здесь излились, как слезы в слезницу, все воспоминания его молодости, все очарования его сердца, все восторги его вдохновения, затаенные порывы; здесь, переступая границы наших ощущений, слишком притуплённых для его манеры, наших представлений, слишком для него бесцветных, он вступил в мир дриад, ореад, нимф, океанид.[67] Нам оставалось бы сказать об исполнительском даре Шопена, если бы мы с горестным мужеством отважились на это, если бы могли вызвать на свет чувства, сплетенные с самыми интимными личными воспоминаниями, и придать их саванам подобающие краски.
Мы не чувствуем в себе достаточно сил сделать это. Да и каких результатов достигли бы наши усилия? Разве удалось бы нам дать знать тем, кто его не слышал, о неизъяснимом обаянии его поэтического дара? Обаянии неуловимом и проникновенном, вроде легкого экзотического аромата вербены или calla ethiopica, благоухающего в мало посещаемых помещениях и рассеивающегося, как бы в испуге, среди толпы, в сгущенном воздухе, где могут держаться лишь живучие запахи тубероз в полном цвету или горящих смол.
Воображением, талантом, тесными связями с «la Fée aux miettes» [ «Феей крошек»] и «le Lutin d'Argait» [ «Аргайским домовым»], встречами с «Séraphine» [ «Серафиной»] и «Diane» [ «Дианой»], нашептывавшими ему на ухо свои сокровеннейшие жалобы, неизреченные мечтания, Шопен отчасти напоминал стиль Нодье,[68] книжки которого можно было нередко видеть на столиках его гостиной. В большинстве его вальсов, баллад, скерцо захоронено воспоминание о мимолетном поэтическом образе, навеянном одним из таких мимолетных видений. Он идеализирует их, придавая им порою облики такие тонкие и хрупкие, что они начинают казаться принадлежащими не нашей природе, а феерическому миру; они раскрывают нам тайны Ундин, Титаний, Ариэлей, цариц Маб, могучих и своенравных Оберонов,[69] всех этих гениев воздуха, вод, пламени, подверженных, как и мы, самым горьким разочарованиям и тягчайшим огорчениям.
Когда Шопена охватывало вдохновение подобного рода, его игра принимала характер совершенно особенный, какого бы жанра музыку он ни исполнял: музыку танцевальную или мечтательную, мазурки или ноктюрны, прелюдии или скерцо, вальсы или тарантеллы, этюды или баллады. Он им сообщал какой-то небывалый колорит, какую-то неопределенную видимость, какие-то пульсирующие вибрации, почти нематериального характера, совсем невесомые, действующие, казалось, на наше существо помимо органов чувств. Порою слышится как бы топот ножек какой-то влюбленно задорной пери;[70] порой – модуляции, бархатистые и переливчатые, как одеяние саламандры; порой можно было уловить звуки глубокого отчаяния, как если бы душа в чистилище не находила умилостивительных молитв, необходимых для конечного опасения. Иной раз из-под пальцев Шопена изливалось мрачное, безысходное отчаяние, и можно было подумать, что видишь ожившего Джакопо Фоскари[71] Байрона, его отчаяние, когда он, умирая от любви к отечеству, предпочел смерть изгнанию, не в силах вынести разлуки с Venezia la bella [прекрасной Венецией].[72]
Шопен создавал также фантазии шутливого характера; он порою охотно вызывал сценку в духе Жака Калло,[73] побуждая смеяться, гримасничать, резвиться фантастические фигуры, остроумные и насмешливые, богатые музыкальными остротами, сыплющие искры ума и английского юмора, как костер из хвороста. Пятый этюд сохранил нам одну из таких остроумных импровизаций, где приходится играть исключительно на черных клавишах, подобно тому как в веселом настроении Шопен трогал только высокие клавиши ума; любя подлинный аттицизм,[74] он гнушался вульгарного пошлого веселья, грубого смеха, как гнушаются мерзких ядовитых животных, один вид которых вызывает тошнотворное чувство у натур повышенно чувствительных и нежных.
Своей игрой великий артист вызывал чувство восхищения, трепета, робости, которое охватывает сердце вблизи сверхъестественных существ, вблизи тех, кого не можешь разгадать, понять, обнять. У него мелодия колыхалась, как челнок на гребне мощной волны, или, напротив, выделялась неясно, как воздушное видение, внезапно появившееся в этом осязаемом и ощутимом мире. Первоначально Шопен в своих произведениях обозначал эту манеру, придававшую особенный отпечаток его виртуозному исполнению, словом tempo rubato: темп уклончивый, прерывистый, размер гибкий, вместе четкий и шаткий, колеблющийся как раздуваемое ветром пламя, как колос нивы, волнуемый мягким дуновением теплого воздуха, как верхушки деревьев, качаемых в разные стороны порывами сильного ветра.
Но это слово не объясняло ничего тому, кто знал, в чем дело, и не говорило ничего тому, кто этого не знал, не понимал, не чувствовал; Шопен впоследствии перестал добавлять это пояснительное указание к своей музыке, убежденный, что человек понимающий разгадает это «правило неправильности». Поэтому все его произведения надо исполнять с известной неустойчивостью в акцентировке и ритмике, с тою morbidezza [мягкостью], секрет которой трудно было разгадать, не слышав много раз его собственного исполнения. Он старался, казалось, научить этой манере своих многочисленных учеников, в особенности своих соотечественников, которым, преимущественно перед другими, хотел передать обаяние своих вдохновений. Соотечественники, и особенно соотечественницы, прекрасно это понимали, вообще обладая исключительном даром разбираться в вопросах чувства и поэзии. Врожденная способность постижения его замыслов позволяла им следить за всеми колебаниями лазоревых волн его настроений.