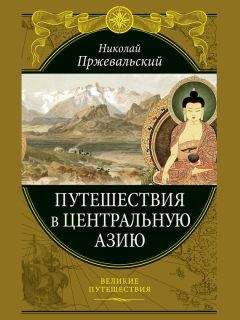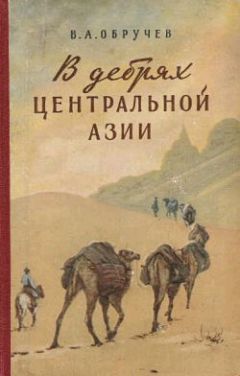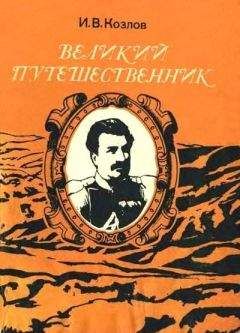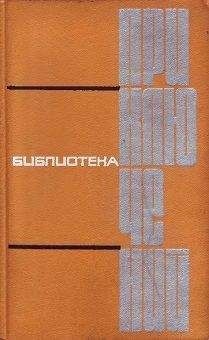Как бы то ни было, все затруднения, наконец, уладились, и, покончив с описанием четвертого путешествия, Пржевальский мог выступить в путь. На этот раз экспедиция была снаряжена в более грандиозных размерах, чем прежние. В состав ее входило 25 человек; государственное казначейство выдало на расходы 80 тысяч рублей.
Но сам начальник экспедиции был уже не тот, что прежде. Злые предчувствия мучили его; он не чувствовал в себе бодрости и увлечения прежних лет. Перед самым отъездом заболела его няня, старуха Макарьевна – заболела опасно, без надежды на выздоровление; это крайне огорчало и беспокоило его, тем более, что оставаться в Слободе и дожидаться исхода болезни было невозможно.
Уезжая, он был очень грустен; прощаясь с Макарьевной, горько плакал; вообще теперь он совсем не походил на прежнего Пржевальского. Казалось, он идет в экспедицию нехотя, против воли, повинуясь непреодолимой силе, тянувшей его в азиатские пустыни. Когда спутники его говорили между собой, что будут делать по возвращении в Слободу, он сердился и останавливал их: «Разве об этом можно говорить, разве вы не знаете, что жизнь каждого из нас не один раз будет висеть на волоске?»
Из Слободы он отправился в Петербург, где пробыл несколько дней. Грустное настроение духа не оставляло его и здесь. «Вот, – говорил он одному из знакомых накануне отъезда, – никогда в жизни не плакал, а сегодня, прощаясь с Костей Воеводским (мальчик, о котором говорилось в предыдущей главе), расплакался, как баба, и не понимаю – отчего».
Покончив все сборы, он выехал из Петербурга 18 августа 1888 года. На вокзале собралось много народа; друзья окружили Пржевальского, публика и репортеры осадили его спутников.
Когда уселись в вагоны, Пржевальский высунулся из окна и крикнул провожавшему его Ф. Д. Плеске: «Если меня не станет, возьмите обработку птиц на себя». Поезд тронулся и скрылся из глаз провожавших, путешественники оглянулись друг на друга, и Роборовский заметил слезы на глазах Пржевальского.
– Что же! Надо успокоиться, – говорил он, точно извиняясь в своей слабости, – едем на волю, на свободу, на труды, но труды приятные и полезные. Если поможет Бог вернуться, то снова увидимся со всеми, если же не вернемся, то все-таки умереть за такое славное дело приятнее, чем дома. Теперь мы вооружены прекрасно, и жизнь наша дешево не достанется».
Но сколько ни старался он ободрить себя, мрачные мысли преследовали его неотвязно.
Без сомнения, причиной этого упадка духа было физическое расстройство, которого он сам не замечал. Болезнь уже свила гнездо в его богатырском организме, но еще не могла свалить его с ног и только отражалась на душевном настроении.
В Москве получил он известие о смерти Макарьевны, что, конечно, не могло подействовать ободряющим образом. «Роковая весть о смерти Макарьевны, – писал он, – застала меня уже достаточно подготовленным к такому событию. Но все-таки тяжело, очень тяжело. Ведь я любил Макарьевну, как мать родную… Тем дороже была для меня старуха, что и она любила меня искренне, чего почти не найти в нынешнее огульноразвратное время. «Прощай, прощай, дорогая! – так скажите от меня на ее могиле».
24 августа он выехал из Москвы в Нижний, откуда на пароходе – по Волге и Каспийскому морю, и по Закаспийской железной дороге – в Самарканд. Проведя здесь несколько дней, он двинулся дальше в Ташкент, а оттуда – в Пишпек, где остановился на довольно продолжительное время, чтобы окончательно снарядить экспедицию. Съездив в Верный для закупки китайского серебра и различных припасов, а также для того, чтобы выбрать солдат и казаков в состав экспедиции, он вернулся в Пишпек, и заметив в окрестностях города множество фазанов, отправился 4 октября на охоту. Охота оказалась очень удачной, но очень печальной по своим последствиям. Проходив целый день, он сильно вспотел и простудился. С этого дня болезнь, таившаяся в его организме, начала одолевать. Оставаясь в Пишпеке еще несколько дней, он постоянно жаловался на жару, хотя окружающие находили температуру сносной.
Тем не менее он продолжал ходить на охоту, выбирать верблюдов, укладывать вещи и 8 октября отправился в Караколь, откуда должно было начаться путешествие. Когда на другой день после его приезда спутники Козлов и Роборовский явились к нему рано утром и выразили удивление, что он уже готов и успел побриться, он отвечал с каким-то странным выражением: «Да, братцы! Я видел себя сегодня в зеркале таким скверным, старым, страшным, что просто испугался и скорее побрился».
– Завидую тебе, – прибавил он, обращаясь к Роборовскому. – Какой ты здоровый!
Странным показалось это замечание его спутникам, но вскоре они заметили, что Пржевальскому что-то не по себе. Ни одна квартира не нравилась ему: то было сыро и темно, то давили стены и потолок; наконец он переселился за город и устроился в юрте, по-походному.
16 октября он почувствовал себя так худо, что согласился послать за врачом. Тот приехал. Больной жаловался на боль под ложечкой, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, боли в ногах и затылке, тяжесть в голове. Врач осмотрел его, выстукал, выслушал, прописал лекарство… Болезнь продолжала развиваться своим чередом, и 19 октября он уже сознавал, что карьера его кончена. Он отдал последние распоряжения, просил не успокаивать его ложными надеждами, и замечая слезы на глазах окружающих, называл их бабами.
«Похороните меня, – сказал он, – на берегу озера Иссык-Куль, в моей походной одежде. Надпись просто: «Путешественник Пржевальский».
К 8 часам утра 20 октября началась агония. Он бредил, по временам приходил в себя и лежал, закрыв лицо рукою. По выражению нижней части лица можно было думать, что он плакал. Потом встал во весь рост, окинул взглядом присутствующих и сказал: «Ну, теперь я лягу…»
«Мы помогли ему лечь, – говорит В. И. Роборовский, – и несколько глубоких сильных вздохов унесли навеки бесценную жизнь человека, который для нас, для отряда, был дороже всех людей. Доктор бросился растирать его грудь холодной водой; я положил туда же полотенце со снегом, но было уже поздно: лицо и руки стали желтеть…
Никто не мог совладать с собою; что делалось с нами – я не берусь и писать вам. Доктор не выдержал этой картины – картины ужасного горя; все рыдали в голос, рыдал и доктор…»
* * *
Известие о смерти Пржевальского произвело сильное впечатление в нашем и западноевропейском обществе. Ученые учреждения спешили выразить свое сожаление по поводу безвременной кончины славного путешественника, наше Географическое Общество открыло подписку на образование капитала и учреждение премии и медали имени Пржевальского, на могиле его воздвигнут памятник, город Караколь переименован в Пржевальск…