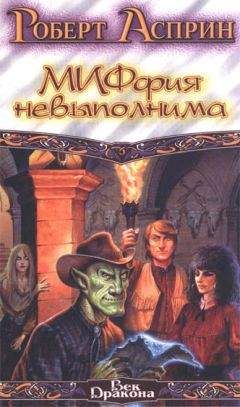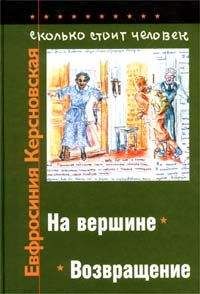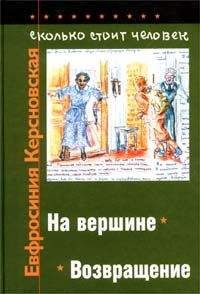- Сволочи! - Евтушик, не помня себя, выскакивает из-за стола, кидается к порогу, где рядом с ухватами и кочергой стоит винтовка. - Я старика вместе с Анкудовичем в Озерках задержал. Хотел отпустить, только коня забрать, но он коня не отдавал. Так я Анкудовичу приказал, чтоб доложил Батуре все как есть. Просто старик упрямый и глупый. Христом-богом просил Анкудовича. Как же он дозволил?
- Сядь, Панаска. Теперь беде не поможешь. Ошалел Батура, да и другие ошалели. Ничем не мог помочь твой Анкудович. Такая каша тут заварилась.
Тяжело дыша, Евтушик садится на скамью.
- Жаль старика. Я же его отпускал. На кой черт ему конь, если самого могли кокнуть. А конь правда Князева. Как он с тем Князевым снюхался?
- Не знаю про Князева, а дядька Ёсип хороший человек. Думаешь, Панаска, в местечке одни полицаи живут? Пускай их сто - остальные честные люди. Такие же, как и мы. Дядька Ёсип своих детей вырастил, они разбрелись, но младшая дочь живет с ним. Земли у него нет, на железной дороге работал. Есть же что-то надо. Вот и поехал. Как припрет, так не только на Князевом коне, самого черта запряжешь и поедешь.
- Виноват Батура. Посеял панику, страху нагнал. Я, кому положено, Аксинья, доложу. Мне бояться нечего. Я в партизанах еще с Якубовским и Шелегом был. Шелега убили, Якубовского Батура оттеснил. А его никто не выбирал командиром. Мать и сестру его немцы расстреляли, но все равно не имеет такого права.
- Я не о том говорю, Панаска. Виноват кто или не виноват, разбирайтесь сами. Человека надо похоронить по-христиански. Не скотина все же. Прошу тебя - сходи завтра к начальникам, попроси, чтоб разрешили отвезти тело в местечко. Я сама отвезу. Попрошу коня и отвезу.
- Отвезешь, Аксинья. Ручаюсь головой, что разрешат.
Евтушик чувствует себя страшно утомленным. Идти никуда не хочется. Он укладывается на скамью, накрывается свиткой, но долго не может уснуть.
VII
Полицаи разбежались. Труп Войцеховского остался в школе.
Лубан будто обезумел. Дрожат руки, тело. Никак не может свернуть цигарку. Сквозь сумятицу мыслей пробивается одно: от семей отрезаны окончательно. Сегодня вечером или самое позднее завтра немцы обо всем дознаются, схватят семьи.
Ольшевский с Адамчуком выносят из школы, кладут в возки винтовки. Толстик возится с конем Войцеховского. Конь закидывает голову, храпит, не дается в руки новому хозяину, который неумело пытается вскочить в седло.
- Перестань! - кричит Лубан. - Привяжи коня к саням.
Годун молча стоит на крыльце. Расстегнув дубленый полушубок, достает из внутреннего кармана какие-то бумаги, рвет на мелкие клочки, рассеивает вокруг крыльца. Клочки бумаги белыми бабочками оседают на почерневший снег.
- Поехали! - наконец отчаянно выкрикивает Годун. - Сняв голову, по волосам не плачут. В Пилятичи, Шмилятичи или к самому черту на рога. Теперь все равно.
- Подожди, - Лубан, взяв вожжи, заворачивает коня на улицу. - Надо найти старосту. Напишу письмо Крамеру. Теперь можно написать.
Старосту ищут долго. Улица опустела. Даже в хате, где справляли свадьбу, тихо. Ворота по-прежнему раскрыты, а двор пуст.
Староста, косоглазый, хлипкий, появился после того, как почти час уговаривали его сестру, бледнолицую и, наверно, немного придурковатую девку. Жена, сколько ее ни спрашивали, где муж, не сказала.
Лубан присаживается за стол. Послюнявив химический карандаш, быстро исписывает размашистым, но разборчивым почерком листок, вырванный из блокнота.
"Август Эрнестович!
Я и мои товарищи, которые находятся со мной, совершили большую глупость, поступив к немцам на службу. Мы теперь опомнились и знаем, что надо искупать грехи. Ты тоже совершил глупость. Но мы тебе все простим, спаси только наши семьи, которые остались в местечке. Сделай все, что можешь, и мы тебе этого никогда не забудем. Разве виноваты семьи, что мы в своей жизни заблудились и пошли не туда, куда надо? Август Эрнестович, ты человек честный, крови не хочешь, пожалей наших жен и детей. Воюют мужчины, солдаты, а не женщины и дети. Верь моему слову, Август Эрнестович, Гитлер войну проиграет, к этому идет. Остаюсь с уважением к тебе, твой бывший заместитель Лубан".
Написанное Лубан читать не стал. Свернул листок, отдал старосте. Насупив брови, приказал:
- Пойдешь в местечко сейчас же. Вечером будешь там. Иди прямо на квартиру к Крамеру. Знаешь, где живет? Отдай письмо в собственные руки. Если пикнешь кому другому, сделаем то же, что с Войцеховским. Понял? Крамеру на словах передай, что найдем под землей, если нас не послушает...
Возле Пилятич из реденького березняка выскакивают на дорогу два молодых парня с винтовками наперевес.
- Стой! Ни с места! Кто такие?
Увидев вооруженных людей, которые едут со стороны местечка, парни растерялись. Не знают, что делать. Кроме них кто-то еще есть в секрете, так как оттуда, из березняка, слышатся три частых, один за другим, выстрела.
- Едем в партизаны, - за всех отвечает Лубан. - Только что разогнали моховскую полицию. Отведите нас к командиру.
Парни переглядываются. Они, видимо, еще не видели, чтоб вот так, на возках, кто-нибудь приезжал в партизаны. Предупредительные выстрелы между тем сделали свое. Из села бегут несколько человек с винтовками.
Ключник, как только подбежал, увидел Лубана, закричал:
- Сдать оружие! Попались, немецкие холуи. Теперь не выкрутитесь!..
Партизанская цепь вмиг ощетинилась дулами винтовок, наставленных на беглецов.
- Большие птицы залетели! - со злорадным возбуждением выкрикивает Ключник. - Могу представить по очереди. Вот это заместитель бургомистра пан Лубан. Собственноручно, чтобы выслужиться, красноармейца застрелил. Тот вон, толстый, выдал партизанские склады, ремонтирует немцам железную дорогу. Да все они полицаи. Как так попались, пан Лубан? Немецкий компас подвел? Не по той дороге поехали?
Лубан и его спутники, которые мигом повыскакивали из возков, оставив винтовки, стоят с побелевшими лицами.
- Мы сами в партизаны пришли, - глухо возражает Лубан. - Разгромили гарнизон в Мохове. Оружие вот тут. Можете посчитать. Четырнадцать винтовок.
Партизаны недоуменно глядят на беглецов. Некоторые закидывают винтовки за плечи, двое или трое держат в руках.
Ключник как бы обвял.
- Насчет Мохова проверим. Только что-то долго собирались? Может, с немцами что не поделили?
Лубан молчит. Процессия медленно движется в Пилятичи. Двое партизан, сев в возки, гонят коней впереди группы в село.
Удивительное свойство имеют слухи. Как снежный ком, который, катясь с горы, обрастая новыми пластами, увеличивается в размерах, так брошенное человеческое слово, переданное другому и третьему, изменяется до неузнаваемости. Еще не успели беглецы под конвоем партизан показаться на пилятичской улице, как в длинной, с разбросанными тут и там хатами деревне будто в бубен забили: местечковая полиция во главе с бургомистром приехала сдаваться партизанам. Бабы, мужики, дети высыпали на улицу.