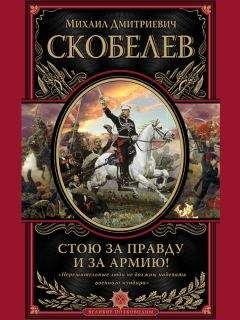Такие шуточки были вполне в натуре Скобелева. Тотчас после этой выходки он заехал к Беккеру-паше, англичанину турецкой службы, и вел с ним серьезнейший политический разговор. После этой беседы Скобелеву вдруг пришла фантазия поехать в турецкий лагерь и попробовать, как едят турецкие солдаты. Подъехав к кухням, он, не торопясь, слез с коня и направился к котлам. Картина была забавная: турки просто ошалели. Скобелев, ничуть не смущаясь, взял ложку из рук ближайшего турецкого солдата, опустил в котел и попробовал. Мерзость оказалась невозможная. Скобелев пожал плечами и заметил: “Наши не стали бы есть... А между тем какой здесь все здоровый народ!”
Узнать, как ест солдат враждебной армии, было, конечно, делом серьезным. Но Скобелеву вздумалось порисоваться перед турками. Спросив, где ближайшая дорога в Константинополь, и получив ответ, он спросил, нельзя ли поехать через крутой спуск по тропинке. Турецкие офицеры сказали ему, что пробраться немыслимо. Скобелев велел Дукмасову ехать вперед, а сам последовал за ним.
Дорога оказалась ужасная, пришлось ехать над бездной. Никакой серьезной цели в этой поездке не могло быть; но Скобелев никогда не возвращался и не менял принятого решения. Кое-как ему и казачьему офицеру удалось добраться до Райской долины. Турки с изумлением смотрели на Скобелева: кажется, этого ему и хотелось.
Вскоре после этого Скобелев дал в Константинополе обед у консула русского посольства. На этом обеде он, между прочим, имел продолжительный разговор с драгоманом г-ном Ону, в котором выразил свои взгляды на исход турецкой войны, – взгляды, во многом напоминающие Аксакова и частью даже новейших эпигонов славянофильства.
– Да, дипломатия сделала большой промах, – говорил между прочим Скобелев. – Надо было настоять на том, чтобы русские войска хоть прошли через Константинополь, не занимая его. Этим наши труженики получили бы хотя бы некоторое удовлетворение. Теперь время какой-то полупобеды. Войска все чего-то ждут... Чересчур уж гуманно. Вот немцы не поцеремонились с французами, с гуманной образованной нацией. Они еще раз доказали Европе, что смелостью, энергией, даже нахальством можно больше выиграть, чем с нашим великодушием!.. Вообще, если бы пришлось, то в отношении немцев я придержался бы их же тактики; действовал бы без жалости... Мы видим благодарность за наш честный образ действий в 70-х годах! Нет, господа, как хотите, а я не верю в эту заигрывающую политику немцев!.. И нам давно следовало бы держаться такой же мудрой, хотя и эгоистичной, немецкой политики!
Здесь уже звучат все мотивы позднейших политических речей Скобелева, наделавших такого шуму.
Дипломаты, слушавшие Скобелева, снисходительно улыбались.
Через несколько дней после этого Скобелев получил приятную телеграмму, что к нему приезжает из России его мать с бывшим его воспитателем, французом Жирардэ. Г-н Жирардэ выехал несколькими днями раньше Ольги Николаевны. Для него была разбита палатка рядом с палаткой Скобелева. Михаил Дмитриевич был очень рад приезду Жирардэ, стал расспрашивать его про новости из России и из Парижа.
В день полкового праздника Казанского полка Скобелев назначил смотр всему своему 4-му корпусу, на который пригласил также главнокомандующего турецкими войсками под Константинополем, Фуад-пашу. На этом смотре он произнес речь, в которой, очертив историю Казанского полка, сказал в заключение, что “если потребуются новые усилия, новые жертвы, то полк окажется на высоте своего призвания”. Речь эту сильно комментировали, хотя в ней не было ровно ничего, могущего задеть самолюбие турок: Скобелев был великодушен и умел щадить чувства побежденных. Речь не понравилась не столько туркам, сколько дипломатам. Турки даже ответили Скобелеву комплиментами в восточном вкусе, а русские солдаты на этом празднике самым дружелюбным образом пили водку с турками.
В августе гвардия стала уже отправляться на пароходах в Россию. Армия завидовала, но должна была ждать. Носились слухи, что скобелевский корпус остается на оккупацию и действительно ему велено было двинуться к Адрианополю. Начались приготовления. В отряде было немало случаев тифа и кровавого поноса. В период мира во многих отрядах умирало чуть не более, чем в походе; у Скобелева было немногим лучше.
Наконец приехала мать Скобелева. В то время это была женщина лет пятидесяти пяти, с темными, почти не тронутыми сединою волосами, с умным, энергичным и добрым лицом.
Любопытны некоторые ее разговоры с офицерами. Однажды ее спросили: правда ли, что ее сын еще ребенком терпеть не мог немцев?
– Да, – отвечала она. – Впрочем, тогда доставалось всем! Вот только monsieur Жирардэ мы и обязаны, что Миша стал сдерживать свою пылкую натуру. Он сумел привязать к себе ребенка, развил в нем честные инстинкты и вывел его на дорогу. Да, Миша был в детстве очень умным, бойким мальчиком, очень самостоятельным, любознательным и любил выводить свои решения.
В разговорах с матерью и с дипломатами Скобелев не раз бранил немцев. Бисмарка он называл “ловким” и отдавал ему должное, но все-таки считал немцев главными виновниками наших неудач.
Во время пребывания Ольги Николаевны со Скобелевым вышла неприятность. Как раз, когда он хотел посетить нового главнокомандующего, Тотлебена, он убедился, что его обокрали. Между прочим пропали крупные бриллианты с его шпаги. Скобелев пришел в состояние такого гнева, что грозил своему денщику, поляку Круковскому, ссылкою в Сибирь; денщик, человек горячий, с польским гонором, вспылил и сказал, что, “может быть, взял кто-либо из господ”. Такой поклеп на офицеров, окружавших Скобелева, до того вывел из себя Михаила Дмитриевича, что он вопреки всем своим принципам и привычкам ударил денщика, чего долго не мог простить себе. В конце концов оказалось, что денщик был прав – вором был один из ординарцев Скобелева.
Скобелев был глубоко огорчен этим происшествием. Он велел никому не называть вора.
– Губить его незачем. Он молод, может быть, исправится, – говорил Скобелев.
И в тот же день, не говоря никому ни слова, отчислил вора обратно в полк. Этим дело о покраже бриллиантов окончилось, и камни были вставлены новые.
Незадолго перед выступлением в Адрианополь офицеры собрались в день св. Георгия на обед к Скобелеву. Он успел уже забыть про бриллианты, был весел и разговорчив. Между прочим он говорил о том, что было бы, если бы турки внезапно напали на его отряд.
– Кто из вас, – обратился он к офицерам, – согласился бы тогда исполнить одно мое поручение отчаянного характера?
Глаза его блистали.
– Я думал, – сказал он, – кому бы поручить взорвать все ходы под нашей позицией, в случае если бы турки ею овладели.