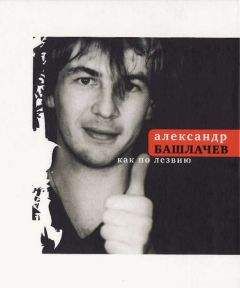Напротив, символы тройки и колокольчика открывают для Башлачёва не то явление, которое необходимо преодолеть, а как раз идеальную, желаемую данность «славного язычества». Но ведь сами эти символы принадлежат к реликтам «пушкинской эпохи», и никак не к будущему. Так что речь здесь идет не о тройке и колокольчике как таковых, а о знаках некоего литературного идеала. Сама же литературная история этого знака позволяет определить ряд дополнительных смыслов исходного представления «рок-н-ролла» как «свистопляса»[76].
«По всем по трем…»
«Эх, тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи»[77].
Современный человек уже не улавливает в знаменитом гоголевском монологе о «птице-тройке» явного иронического оттенка. Тройка — три лошади, запряженные в один экипаж, — действительно была чисто русским изобретением, русским приспособлением к дальним расстояниям и тряским дорогам.
Тройка вошла в широкое бытование лишь в начале XIX века. «В Екатерининское время, — свидетельствует М. И. Пыляев, — сани были двухместные, с дышлами, запрягались парою, четвернею или шестернею в цуг»[78]. Эта лошадиная пара — наиболее частый способ запряжки в веке XVIII, — между прочим, тоже стала предметом поэзии и даже сыграла свою роль в известной полемике «шишковистов» и «карамзинистов». В 1810 году один из лидеров «архаистов» С. А. Ширинский-Шихматов в стихотворении «Возращение в отечество любезного моего брата…» обозвал этот способ запряжки «высоким слогом»:
Но кто там мчится в колеснице
На резвой двоице коней?..[79]
На это московский профессор М. Т. Каченовский в язвительной рецензии иронично заметил: «Хорошо, что приезжий гость скакал не на тройке»[80]. А сторонник «карамзинистов» В. Л. Пушкин в поэме «Опасный сосед» (1811) резво обыграл эту самую «двоицу»:
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы парой двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас.
Ну, к черту ум и вкус! пишите в добрый час!..
Как видим, к этому времени тройка уже существовала. Впервые в поэтическом тексте это слово употребил, кажется, К. Н. Батюшков: «На тройке в Питер улечу» (стихотворение «Отъезд», 1809). Да и сам В. Л. Пушкин, скорее всего, предпочитал тройку: именно на тройке отвозил он в 1811 году своего племянника из Москвы в Петербург, о чем тот поведал в стихотворении «Городок» (1815): «На тройке пренесенный // Из родины смиренной // В великой град Петра…».
В ранних пушкинских стихах тройка еще не несла никакой особенной поэтической нагрузки, кроме простого обозначения средства передвижения. «Садись на тройку злых коней...» — обращается поэт в послании «К Галичу» (1815). Смысловая нагрузка здесь переносится на «злых коней», а «тройка» становится простым указанием на их количество, как в эпиграмме «Угрюмых тройка есть певцов…». Такое употребление сохраняется и позднее — например, в «Евгении Онегине»:
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей…
Даже эпитет к слову «тройка» ничего принципиально не менял. Вот в «Братьях-разбойниках» (1822): «Заложим тройку удалую…». Или в балладе «Жених» (1825): «Лихая тройка с молодцом». Тройка становилась самоценным образом лишь тогда, когда включалась в стихотворную ситуацию дороги, пути, — ситуацию, которая в поэзии неизбежно получала оттенок символического значения. Этот смысл образа тройки появился совсем неожиданно.
Символическую ситуацию пути Пушкин попробовал воссоздать в стихотворении «Телега жизни» (1823). Несложное внешне аллегорическое представление человеческой жизни как движения в телеге по тряской дороге, движения, меняющего свой характер вместе с переходом человека из одного возраста в другой, оказывалось очень многозначным. Жизненная «дорога» воспринималась как символ духовного преображения человека, определяющего особенно сложные пути к совершенству.
Это пушкинское стихотворение не предназначалось для печати: в конце второй строфы присутствовало нецензурное обсценное выражение, блестяще характеризовавшее возраст человеческой молодости:
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая страх и негу,
Кричим: валяй, ебена мать! (XIII, 126)[81]
Осенью 1824 года П. А. Вяземский принял деятельное участие в организации нового журнала «Московский телеграф» — и у Пушкина, находившегося в михайловской ссылке, стал настойчиво просить «что-нибудь на зубок» (XIII, 118). Пушкин отнюдь не горел желанием участвовать в этом предприятии, но и не хотел отказывать Вяземскому — тот только что выступил издателем «Бахчисарайского фонтана». Тогда Пушкин послал ему именно это, невозможное для печати, стихотворение — и приписал не без тайной усмешки: «Можно напечатать, пропустив русский титул…» (XIII, 126). Он, естественно, не предполагал, что «Телега жизни» может быть опубликована — и очень удивился, увидев ее напечатанной: «Что же Телеграф обетованный? Ты в самом деле напечатал Телегу, проказник?» (Письмо от 19 февраля 1825 года — XIII, 144).
«Телега жизни» появилась в первом номере «Московского телеграфа» за 1825 год (вслед за стихотворением самого Вяземского «К приятелю»), а «русский титул» во второй строфе был очень удачно заменен «извозчичьим» титулом:
С утра садимся мы в телегу,
Мы погоняем с ямщиком
И, презирая лень и негу,
Кричим: валяй по всем по трем![82]
Формально употребленное Вяземским «ямщицкое» присловье было не очень кстати: телега (крестьянская повозка), как правило, не запрягается тройкой лошадей. Однако поэтическая сторона этого «присловья» была по-своему замечательной.
Тройка прижилась в России как оптимальная упряжь для дальних путешествий по плохим дорогам. Во-первых, при этом способе запряжки лошади занимали пространство шире, чем повозка (сани, карета, коляска, бричка, дрожки и т. п.) — в результате значительно уменьшалась опасность падения седока. Хотя, конечно, полностью такая возможность не исключалась даже на больших почтовых трактах: Чацкий в комедии «Горе от ума», рассказывая Софье историю своего путешествия от Петербурга до Москвы, подчеркивает: «И растерялся весь, и падал сколько раз!». Во-вторых, при движении на тройке нагрузка в пути распределялась по трем лошадям, и оттого лошади меньше уставали. Такой способ запряжки — что замечательно — позволял регулировать нагрузку, приходившуюся на каждую из лошадей. Жестко закреплялась только средняя лошадь (коренник), которой помогали две пристяжные. В нужный момент ямщик кнутом или вожжой подхлестывал одну из пристяжных; та начинала бежать быстрее и тянуть сильнее, благодаря чему и давала возможность передохнуть соседней лошади.