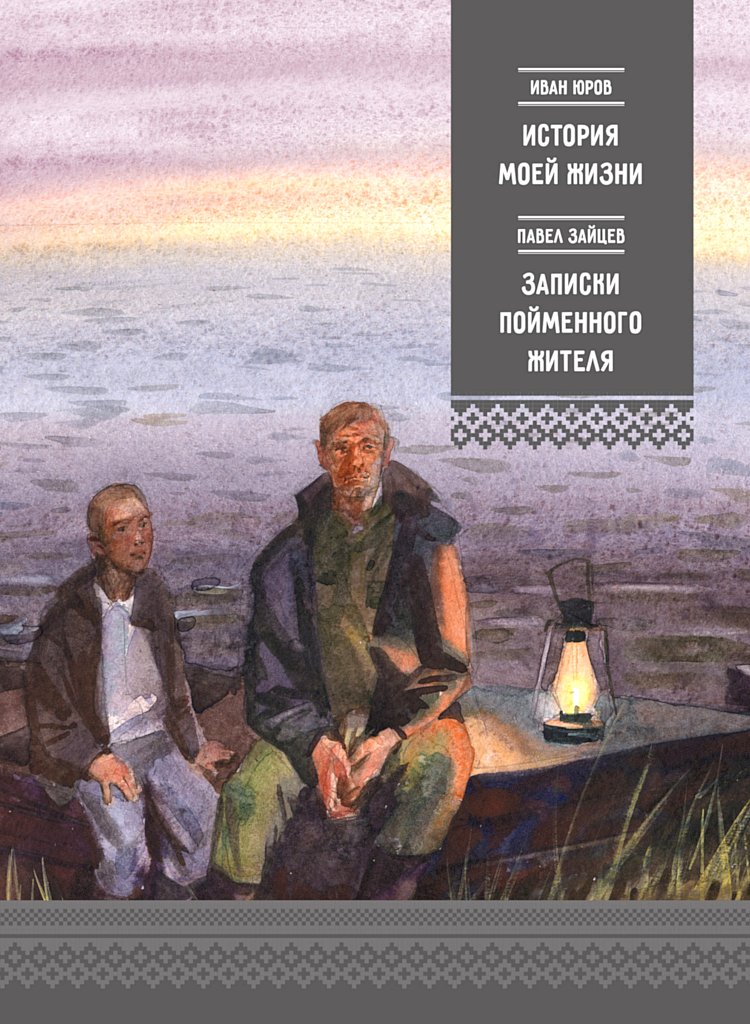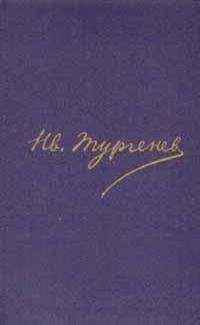то и не один. Он беспрестанно таращил глаза на подсвеченное огнём лицо матери, да ныл понемногу. А баба знай работает. За четверть часа напечёт, бывало, две-три дюжины овсяных блинов, намажет их коровьим или растительным маслом да всех домочадцев и накормит до отвала. Блины чаще всего подавали на стол в завершении завтрака.
Каждый житель поймы с детства приучался к труду, познавал не столь уж мудрёные истины крестьянской жизни. Мой отец часто говорил: «Человек то и поживает, что он поработает». Всю свою жизнь он работал без выходных дней, не знал, что такое отпуск, дом отдыха или санаторий. Ему было затруднительно объяснить, почему пожилым людям, выработавшим свой трудовой ресурс, выдавали пенсию. Он не понимал, почему физически маломощным пожилым людям нужны государственные пособия, когда в их семьях есть молодые трудоспособные люди, которым по законам самой природы положено содержать старых нетрудоспособных родственников. И так мыслили раньше все русские землевладельцы: в центре их крестьянского сознания было стремление к куску хлеба, тяга к земле.
Как только спадал весенний лив воды, отец каждое утро вставал с постели чуть забрезжит рассвет, запрягал кобылу Маруську в плуг и до завтрака ехал в поле пахать. Крестьяне междуречья старались не упустить благоприятное время весны, оно и приходит для боронования полей, для вспашки, посева зерна. Из семерых детей я был в семье старшим. Мои руки впервые ухватились за плуг — в борозде поля, за косу — на сенокосе.
А мне было тогда всего тринадцать лет. В то время пахота и косьба были самыми тяжёлыми работами из всего крестьянского труда. Помню, отец сказал мне тогда:
— Ну что же, Павлуша, надо тебе учиться пахать землю плугом, ты уж не маленький, четырнадцатый год…
И утром следующего дня я пошёл рядом с отцом из хутора на пашню. Впереди нас шла лошадь, запряжённая в лучок плуга. Поваленный набок плуг тащился за ней, расчерчивая землю полозом и одной ручкой двумя змейками-полосками. Мы шли молча. Отец держал в руках вожжи, правил лошадью и изредка бросал взгляд по сторонам узкой дорожки-глобки. В то утро весна бурно вступала в свои права, молодая весенняя зелень приветливо ласкала глаза. Юная травка, как частая щетинка на сапожной щетке, пробивала серую плёнку нанесённого водополицей ила, покрывавшего всю землю поймы. Из шири голубого неба доносилось курлыканье журавлей. Гуси тянули клинья куда-то на север.
Начатое для распашки поле находилось невдалеке от хутора, и мы с отцом вскоре пришли к тёмно-бурому лоскутку земли. После короткого объяснения отца я ухватился руками за ручки плуга. От понукания лошадь тронулась. Но, впервые взявшись за плуг, мои почти детские руки не могли удержать его в полевой борозде ровно и крепко. Плуг вильнул в сторону и вырвался. От такой промашки, от того, что не умею по-крестьянски норовить плугом, я застыдился, почувствовал краску на своём лице. Попятив вожжами назад, вставив плуг в том месте, где я начал пахать, отец сказал:
— Ты, милый сын, за ручки плуга не держись так, чтобы тебе самому не упасть, а старайся править плугом вот так…
И отец прорезал плугом пару саженей. Я трунил сбоку от плуга, любуясь, как широкий изгиб плужного отвала клал на серую кромку прошлогоднего поля перевернутую ленту бурой земли.
Отец поднял за козырек свой старый картуз, сдвинул его на затылок. Я снова взялся за ручки плуга. На этот раз ухватился покрепче.
— Нноо-о-о, милая! — крикнул на лошадь отец.
Деревянный пучок впереди плуга заёрзал, и плуг от натяжения лошади сначала медленно, а потом сразу быстрее пошёл вперёд. Меня закачало. Руки юлили из стороны в сторону. Я старался удержать плуг. Ноги не успевали за ним. Твёрдая опора уходила из-под ног — мне мешала шагать борозда за плугом, я вихлял всем телом. Но плуг всё-таки шел за лошадью. Он то углублялся — и тогда натужно шипел, словно сердясь на землю, то выходил кверху — и тогда убавлял ярость.
— Стой! — крикнул отец.
Я остановил лошадь. Глубоко дыша, почувствовал под рубахой мокроту. Повернулся назад, глянул на кривые ломти земли, перепаханной мною только что, и на отца, идущего ко мне.
— Так не годится. Смотри, что напахал: где глубоко, где мелко. Надо ровнее, — тихо промолвил отец, подошед ко мне.
Он вынул из холщовых штанов кисет с табаком-самосадом, скрутил газетную самокрутку, закурил и, присев на корточки возле плуга, сказал:
— На сегодня с тебя хватит. А теперь ступай домой и оклади в поленницу по стенке сарая все колотые дрова.
Я долго стоял возле борозды, вспаханной под управлением отца. А он, покурив, тронул за вожжи лошадь, повернул её обратно и начал пахать с того места, откуда начинались мои паханые кривули. Я смотрел ему вслед и видел, как он, будто бы и не натужась, а играючи, шёл за лошадью, держа в крепких руках показавшийся мне таким тяжёлым и упрямым плуг. Управляя плугом и лошадью, он дошёл до конца поля, повернул назад и, воткнув в землю остриё плужного лемеха, снова, теперь уже скрывшись за лошадью, пошёл по новой борозде ко мне навстречу. Я глянул по сторонам. Поодаль, на других лоскутах земли, тоже пахали. Лошади шли по земле, переступая ногами, словно ножницами, расстригая ими воздух. Пригорбившись, позади лошади шел мужик-пахарь, похожий на моего отца.
Через два дня тот снова позвал меня на пашню. Три попытки и на этот раз закончились для меня пахотными огрехами. Тащась за лошадью, плуг упорно не слушался мальчишеских рук.
— Ничего, — ласково успокаивал отец, пряча усмешку в посивевшие от табачного дыма усы, — помучаешься и научишься…
Много было моих попыток научиться пахать землю. Но только через два года я полностью овладел главным инструментом тогдашнего земледелия.
В пятнадцать с половиной лет я мог уже пахать землю и управляться с плугом наравне с отцом.