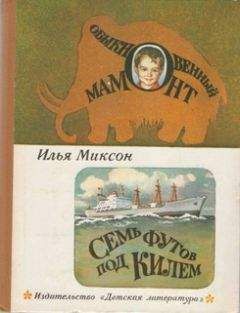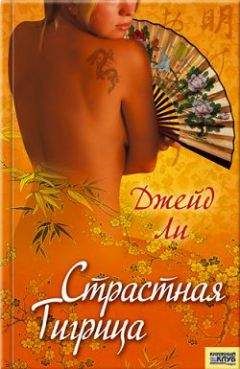Необъявленная война стала казаться, как у Оруэлла в «1984», бесконечным телевизионным шоу, хотя втайне задыхалась, кашляла, цепенела. И это в корне изменило драматическое действо; раньше сокрытое всплывало в конце третьего акта, теперь мы все оказались в третьем акте. Я всерьез начал сомневаться, возможны ли пьесы, где внутренняя тема обретает поступательное развитие. Если нет, то мы, по-видимому, двигались к новому типу культуры. Нас губило то, что мы слишком осознанно, слишком осмысленно лгали в ходе этой войны, понимая, что тем самым подменяем реальность, а не противостоим национальному самообману. Что оставалось вскрыть, как не отсутствие отваги, чтобы остановить эту ложь?
Я все чаще вспоминал своего бывшего приятеля Сида Фрэнкса, полицейского: «Не могу читать книжки. Меня все время мучит вопрос, откуда автор знает, что будут делать персонажи. Кто что хочет, тот то и делает, в том смысле, что каждый делает что хочет. Или, например, в пьесах — почему, как только доходит до самого интересного, сразу занавес?» Он опередил свое время: «серьезные» пьесы попросту перестали существовать, вовсю главенствовал стиль иронического удивления — воистину каждый делал что хотел, и любой намек на невероятное был не больше чем изображением невероятного, и ничем иным. Это была убогая эстетика полицейского, которую можно встретить в любом полицейском участке мира.
Я забавлялся, перекладывая Эдипа на комический лад: мой современник обнаруживает, что женат на собственной матери, но вместо того, чтобы ослепить себя, садится и начинает стенать: «Боже, за что такая немилость. Надо пойти посоветоваться с врачом, не повлияет ли это на наше потомство». Если порушенный порядок вещей лишить возвышенного, воистину не останется ничего, кроме анекдотических пьес, ибо отпадет необходимость возвыситься над обыденным, чтобы уловить мгновение Бога.
Посмотрев «Волосы», я, надо признаться, был немало удивлен, что это протест против вьетнамской войны. Ни отзывы о пьесе, ни реклама не подготовили меня к этому. Конечно, остриженные волосы гуру олицетворяли антижизнь как насилие, вызванное войной, но эта мысль была настолько глубоко спрятана в хаотической постановке, где люди мастурбировали, совокуплялись, пели, танцевали с таким неприкрыто-тошнотворным непрофессионализмом, что образ войны в итоге потерял значительность, стал смешным и никого не убивал наповал. Однако в искусстве каждый стиль платит свою мзду за то, чтобы быть чем он есть. И зритель радостно реагировал на святотатство — насмешку над флагом и другими неотъемлемыми атрибутами войны. Все это делалось скорее весело, чем с ненавистью. Я задумался, почему «Волосы» оказывали воздействие только на уровне живота, не поднимаясь до интеллекта. С другой стороны, со времен провала «Лисистраты» разве театру когда-нибудь удавалось если не прекратить, то хотя бы приостановить войну?
Как-то вечером позвонил кто-то из местных школьников, попросив пожертвовать им дерево, чтобы они посадили его на лужайке около своей школы как древо мира. Голос на другом конце провода был приглушенный, почти заговорщический. Я согласился, предложив, чтобы они приехали и помогли мне его выкопать. Я знал, что многие, даже промолчав, будут сочувствовать этой идее, хотя отлично понимал, что вновь становлюсь уязвим для нападок. На следующий день раздался звонок и тот же голос сообщил, что прошедшей ночью на лужайке у другой школы кто-то выкопал их древо мира и ребята боятся, что, если они посадят мое, это подогреет местных патриотов, которые числом, как писала пресса, превосходят запуганное большинство. Я огорчился, хотя одновременно вздохнул с облегчением.
Трудно было понять, как настроено большинство. Один из моих друзей, ответственный за трудовые соглашения на большом металлургическом заводе под Торрингтоном, как-то утром пришел на работу с черной повязкой в знак участия в общенациональной кампании за временное прекращение бомбардировок Вьетнама, так называемый мораторий. Рабочие в цехе деликатно поинтересовались, кто умер. Он объяснил. На следующий день на каждом станке в цехе вызывающе красовалось по американскому флагу. И все-таки не покидала надежда, что рабочие разберутся, ибо воевали их сыновья.
Чуть дальше от нас по дороге жил мальчик, который с детства любил приходить к нам и, устроившись, тихонько наблюдать, как мы разговариваем с гостями, плаваем или играем в мяч; позже я помог ему поступить в актерскую школу при местном драмтеатре. Однажды он облил себя на заднем дворе бензином, поджег и погиб. В этом, конечно, был не только протест против войны: как-то он признался, что его отец жил теми же ценностями, что и Вилли Ломен. Но Бифф любит отца, поэтому борется против его летальных настроений. Преподаватели по мастерству говорили мне, что мальчик был очень талантлив.
Еще один мальчишка, которого я знал с пеленок, был девятнадцатилетний сын местного торговца. Однажды поздно вечером он возник у моих дверей и предложил «написать стихи по случаю на любую тему». Он был призывного возраста и не учился, поэтому не имел оснований для отсрочки от призыва на войну, которую ненавидел. Через год он умер от слишком большой дозы наркотиков, успев стать преуспевающим торговцем. Он придумал продавать коллекционерам местные породы камней — кузов его машины всегда был набит бесценными образцами, которые он отыскивал в лесах розовощекой страны своего детства.
Мне казалось, все знают о подобных фактах. Что могли добавить к этому пьеса или роман? Тайные переживания страны полностью игнорировались, как будто никто не был ни в чем виноват. Мы медленно окостеневали в изощренной рутине отрицания. Все делалось настолько сознательно, что даже традиционный аккомпанемент каждой войны — чествование ветеранов — был отменен. Предполагалось, что они сразу же по прибытии должны были стать обыкновенными обывателями. Мне в этом чудилось что-то странное и зловещее, вспоминались люди, которые, не поднимая головы, трудились на полях в окрестностях горы, когда мы ехали в лагерь смертников.
Еще один молодой человек, сын моего давнего приятеля, вернувшись из Вьетнама, сел на мотоцикл и помчался в какой-то городок за шестьсот миль, чтобы найти и прикончить парня из его подразделения, который вскрикнул, вызвав на них огонь вьетконговцев. Парня не оказалось дома, и сын моего приятеля благополучно вернулся. Он начал играть на бирже и вскоре преуспел, однако продолжал делать туманные намеки, что кое-кто из однополчан-ветеранов готовится «почистить» общество.
Пляска сюрреального продолжалась. Как-то днем я выступал на антивоенном митинге на лужайке в Нью-Хейвене, и мне посчастливилось познакомиться с Уильямом Слоаном Коффином-младшим, священником из Йельского университета, с которым мы стали друзьями. А через несколько дней я уже держал речь перед сотнями курсантов военной академии в Уэст-Пойнте. Меня пригласил полковник с английской кафедры, я поначалу отказался, полагая, что он перепутал меня с каким-нибудь другим Миллером — ведь я был ярый противник войны. «Поэтому мы вас и приглашаем», — сказал он. После этого ему трудно было отказать.