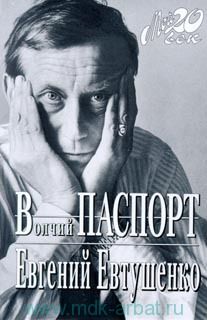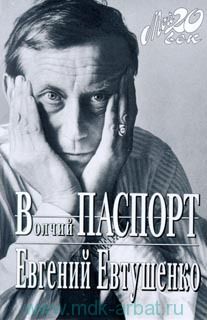Писатели, которые собрались, были все гораздо старше нас, но я всегда дружил с теми, кто старше. Она смотрела на них потрясенно, как на портреты, превратившиеся в людей.
Тамадой избрали кавказского прозаика, всегда неунывающего, полного застольной энергии, похожего на неостановимо снующий сперматозоид с длинным лукавым носом. Тогда она первый раз услышала слово «тамада». Первое, что сделал новоизбранный тамада, это снял пояс со штанов и надел его поверх пиджака, якобы по какому-то, только ему известному, кавказскому обычаю.
Таким невеличавым поведением лауреата Сталинской премии она была раздавлена, как хрустальный бокал мусоровозом.
Известный фронтовой поэт, тоже лауреат и тоже Сталинской премии, бывший футболист, с носом приплюснутым, как у боксера, почему-то скомкал бумажную салфетку и начал с дворовой виртуозностью подбивать ее в воздухе внутренней стороной ботинка, выражаясь по-футбольному – «щечкой». Именно так тогдашняя дворовая шпана играла на интерес или даже на деньги – кругленьким кусочком меха со свинцовой пластинкой посередине – это называлось «пушок» или «зоска».
Другой поэт, тонкий нежный лирик, только-только вернувшийся из лагерей, где в три приема в целом провел лет четырнадцать, быстро напился и нажрался, наверно от съедавшего его, как болезнь, лагерного страха, что водка и жратва скоро кончатся, и, облизываясь длинным багровым языком муравьеда, начал незло, но активно употреблять сочные русские слова восьмого цвета, не входящие в официальную радугу, одобряемую педагогикой и цензурой. Но для восемнадцатилетней итальяно-татарки, которая религиозно дышала поэзией, как жрица благовониями храма, поэт, играющий в «зоску» или ругающийся матом, выглядел так же чудовищно, как орхидея, намазанная селедочным маслом.
Один из «живых писателей» был вдобавок одноглаз, другой горбат, а у третьего была расстегнута ширинка.
Словом, все, вместе взятые, «живые писатели» в наполненных неподдельным ужасом восемнадцатилетних глазах представляли скопище монстров. Оскорбленная в своих трепетных ожиданиях наконец-то узреть «живых писателей» как неземных существ, питающихся исключительно мороженым из сирени и паштетом из соловьиных языков, она потихоньку встала, вытащила меня умоляющим взглядом из кабинета, где мы пировали, и потребовала, чтобы мы немедленно ушли.
Я рассердился на нее, считая это высокомерным капризом. Я был по-юному жесток и, чтобы наказать, не проводил ее.
Она шла одна через всю завьюженную новогоднюю Москву, и ее китайские зеленые замшевые туфли утопали в снегу.
Справедливости ради надо сказать, что в некоторых из тех, кто сначала показался ей монстрами, через некоторое время она, как девочка из «Аленького цветочка», увидела нежные души, спрятанные по злому колдовству времени в косматые шерсти мата и пьянства, и эти кажущиеся монстры стали ее друзьями.
Мы часто ссорились, но быстро и мирились. Мы любили и друг друга, и стихи друг друга. Одно новое стихотворение, посвященное ей, я надел на весеннюю ветку, обсыпанную чуть проклюнувшимися почками, и дерево на Цветном бульваре долго махало нам тетрадным, трепещущим на ветру листком, покрытым лиловыми, постепенно размокающими буквами.
Взявшись за руки, мы часами бродили по Москве, и я забегал вперед и заглядывал в ее бахчисарайские глаза, потому что сбоку были видны только одна щека, только один глаз, а мне не хотелось терять глазами ни кусочка любимого и потому самого прекрасного в мире лица. Прохожие на нас оглядывались, ибо мы были похожи на то, что им самим не удалось.
Мне хотелось ей подарить что-то самое красивое, что-то самое большое. Этим самым красивым, самым большим для меня было море. «А для меня в музеях и квартирах // оно висело в рамах под стеклом. // Его я видел только на картинах // и только лишь по книгам знал о нем».
Первый раз я увидел море еще в пятьдесят втором году, еще без моей любимой, когда мы с моим школьным товарищем восторженно выпрыгнули из раскаленного поезда Москва – Сухуми на разъезде у Туапсе, стянули прилипшие к телу рубахи и брюки и в доколенных черных сатиновых трусах моего поколения, не знавшего плавок, ринулись внутрь прохладно кипящего изумруда, растворенного в огромной чаше с необозримыми краями.
На сухумском перроне нас обступили жирноголосо зазывающие квартирные хозяйки, пахнущие примусами и жареной кефалью, но мы почему-то подошли не к ним, а к печальной женщине в черном, одиноко стоявшей поодаль и ничего не кричавшей. У нее был некрасивый, но одновременно красивый нос с горбинкой и побитые, но одновременно гордые, обугленные глаза. Она оказалась многодетной гречанкой, почти вдовой – ее мужа вместе с другими многими греками ни за что ни про что выслали в Казахстан, и она горько и честно предупредила об этом двух молодых москвичей, не желая приносить им никаких неприятностей. Но мы выбрали именно ту крышу, под которой была беда: война научила нас тому, что беда и позор – это разные вещи.
Меня никогда не кормили так вкусно, как под той греческой крышей, может быть, потому, что хозяйка готовила нам все, чему был бы счастлив ее муж, если бы он вдруг возник на пороге с азиатской пылью на сапогах после принудительной одиссеи. С тех пор я больше всего на свете люблю рыбу по-гречески – в томатном соусе, с тонко нарезанной морковью, и тушеные баклажаны с помидорами, луком: по-кавказски – аджапсандал, по-французски – рататуй.
Гречанка часто ходила вечерами на берег, садилась прямо на камни у причала в черной кружевной накидке, похожей на иней из пепла, и ждала мужа с моря, хотя азиатские пески, всосавшие его, были совсем в другой стороне, за ее спиной. Но, наверно, в генах всех гречанок со времен Пенелопы заложена память о том, что расставания с любимыми и их возвращения неразделимы с морем.
Через несколько лет один мой друг дал мне и моей любимой ключ от своей пустовавшей сухумской квартиры. Мы бросили наши чемоданы в квартире, особенно ее не разглядывая, и, взявшись за руки, как дети, побежали на берег, бросились с головой в зеленое пенящееся чудо, которое почему-то называлось Черным морем.
Это море когда-то качало и триремы аргонавтов под золотым руном так много обещавших рассветных облаков человечества, и генуэзские галеры, где африканские рабы, вылепленные из черных мускулов, лиловых губ и белков слоновой кости, иссеченные витыми плетьми надсмотрщиков, наплескивали самшитовыми веслами будущий сан-луисский блюз, и турецкие фелюги с красными перцами фесок, и дубки контрабандистов, где в трюмах «коньяк, чулки, презервативы», и мятежный броненосец «Потемкин», где матросские ленточки, окунувшись в борщ с червями, превратились в гениальную киноленту, и покидающий Россию последний корабль белой армии, где Врангель в траурной черкеске так вцепился в борт, что под его ногти впились белоснежные корабельные занозы.
И мы по-дельфиньи счастливо отфыркивались, глотая море, как подступившую к горлу историю, и наши соленые губы находили друг друга даже под водой, где шаловливые стайки рыб щекотали нам ноги. О, что бы сегодня ни говорили о романтической безвкусице раннего Горького, но то, что он чувствовал когда-то на берегу моря, оказалось правдой. Да, море смеялось! Да, тысячами! Да, серебряных! Да, улыбок!
Но, выйдя на берег, я увидел ту же самую гречанку, сидевшую на камнях в кружевной черной накидке и все еще ожидавшую, что море вернет ей мужа. Мы подошли к ней, и она узнала меня, пригласила к себе в дом, научила мою любимую готовить аджапсандал. Гречанка не ела вместе с нами, но ей нравилось смотреть, как мы уплетаем за обе щеки, и она полуулыбалась-полуплакала, потому что я был единственным мужчиной в доме, а ее маленькие мужчины-греки еще не подросли.
На прощанье гречанка по-православному перекрестила меня и мою любимую, как будто ее несчастье благословило нас, чтобы мы были счастливы.
Я и моя любимая вернулись в еще незнакомую нам квартиру и, торопливо обтерев скопившуюся на мебели пыль, поскорей улеглись, как все на свете любящие друг друга, для кого нет больше счастья, чем остаться вдвоем. Но нас поджидало нечто.
Первым проснулся я, хотя за окном еще была магнолийная, вязкая от запахов ночь. По мне что-то ползало. Я панически включил свет и – о ужас! – увидел полчища прозрачных от голодухи клопов, коричневой чумой обсыпавших стены, постель и нас. Я в отчаянье разбудил сладко спавшую любимую, стряхивая с ее рубенсовского тела этих мини-коричневорубашечников, уже сыто отяжелевших от крови наследницы Ахматовой и Цветаевой, а сам забрался на стол, подогнув босые дрожащие ноги, и заплакал.
Моя любимая, однако, проявила итальянский темперамент, соединенный с татарским упорством. Она, нимало не стесняясь, разбудила среди ночи соседа по лестничной клетке – абхазского краеведа, специалиста по путешествию аргонавтов за золотым руном, добыла у него керосин и, вооружившись тряпкой, начала войну с несчастными оголодавшими кровопийцами, в то время как я позорно продолжал восседать на столе, голый, сложив руки в позе брамина, молящегося во время наводнения.