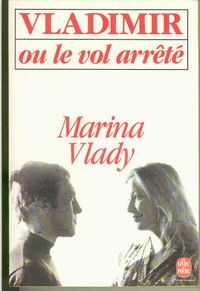После большого зала по-восточному убранная комната, где накрыт чай, кажется особенно уютной. Красивая женщина, одетая в темный шелк, здоровается с нами глубоким голосом оперной певицы. Я замечаю, что ты слегка покраснел. Сжимаешь и разжимаешь пальцы, твой голос, еще более хриплый, чем обычно, выдает волнение. Мы пьем янтарный чай из старинных фарфоровых чашек и едим тающее во рту домашнее печенье. В разговорах о том о сем мы дивно проводим время. И, волоча за собой несколько ленточек серпантина, приставших к обуви, мы спускаемся по лестнице, все еще находясь во власти волшебства.
В восемьдесят четвертом году я буду присутствовать в Париже на репетиции Рихтера. Когда маэстро поднимется, я подойду к нему, и мы посмотрим друг на друга долгим взглядом. Своими сильными руками он возьмет меня за руки, печально улыбнется и тихо скажет:
— Нужно всегда быть готовым умереть. Это — самое важное.
Единственный поэт, портрет которого стоит у тебя на столе, — это Пушкин. Единственные книги, которые ты хранишь и время от времени перечитываешь, — это книги Пушкина. Единственный человек, которого ты цитируешь наизусть, — это Пушкин. Единственный музей, в котором ты бываешь, — это музей Пушкина. Единственный памятник, к которому ты приносишь цветы, — это памятник Пушнину. Единственная посмертная маска, которую ты держишь у себя на столе, — это маска Пушкина.
Твоя последней роль — Дон Гуан в «Каменном госте».
Ты говоришь, что Пушкин один вмещает в себе все русское Возрождение. Он — мученик, как и ты, тебе известна каждая подробность его жизни, ты любишь людей, которые его любили, ты ненавидишь тех, кто делал ему зло, ты оплакиваешь его смерть, как будто он погиб совсем недавно. Если воспользоваться словами Булгакова, ты носишь его в себе.
Он — твой кумир, в нем соединились все духовные и поэтические качества, которыми ты хотел бы обладать.
…На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дольную трудов и чистых нег.
Когда небо розовеет, позолоченные купола церквей вырисовываются на нем китайскими тенями и легкий туман поднимается над рекой, ты любишь побродить по городу.
Тепло одевшись, мы собираемся пройтись по бульварам, поклониться Пушкину. Мы гуляем по аллеям, обрамленным по обе стороны небольшими старинными особняками пастельных тонов и восхитительными коваными решетками.
Здесь растут последние большие деревья в Москве. Гуляя, мы всегда оказываемся в одних и тех же местах, впрочем, это почти все, что осталось от старого города: Садовое кольцо, бульвары, Арбат. Эти улицы и переулки полны очарования. На Арбате мы пытались когда-то найти квартиру, но тщетно.
Как-то раз мы гуляем по Садовому кольцу, и я наконец нахожу дом моих родственников по отцовской линии. По описаниям одного старого московского приятеля моего отца нам удается вычислить то место, где раньше стоял дом, — это там, где находится памятник Маяковскому, несколько новых домов и «Современник». Как же мы были удивлены, узнав, что театр был построен прямо на месте особняка, где родился мой отец!.. Теперь сломали и театр.
Мы часто ходим на Центральный рынок — тоже по бульварам нам очень нравятся здешняя атмосфера, шумы и резкие запахи. Здесь можно купить у краснощеких баб разноцветные грибы, свежий творог, яйца, даже иногда — домашнее масло, мед и разные крашеные деревянные игрушки. Зимой — яблоки, сморщенные, как и старухи, которые их продают, но такие вкусные, если их запечь в духовке с куском свинины или уткой. В этой части города есть еще хорошие рестораны — «Армения», «Узбекистан», «Арагви», «Пекин», где мы устраиваем целые пиршества, а потом возвращаемся домой пешком, объевшиеся и довольные. Иногда мы идем на Красную площадь, особенно в разгар зимы, когда на фоне снега выступает собор Василия Блаженного, у которого купола похожи на большие разноцветные леденцы. Здесь в 1889 году крестили моего отца. Мы любим ходить в зоопарк. Мне он кажется самым красивым в мире, потому что я его хорошо знаю — мы живем неподалеку. Когда у нас есть немного времени и открыта площадка молодняка, мы не можем оторваться от этих зверушек, невинно играющих друг с другом, здесь и волчата, и ягнята, и тигрята, и медвежата. Глядя на них, можно представить себе, каким был бы рай, если бы он существовал. Немного дальше мы находим наших любимиц — двух пум с серо-голубыми глазами, спокойная величавость которых вдруг нарушается стремительностью прыжка. С необыкновенной легкостью они достигают высоких веток мертвых деревьев, где они спят целыми днями, свесив вниз хвосты. Мы никогда не забываем заглянуть к волкам, таким несчастным в клетках, где они беспрерывно ходят по кругу, — скорее для того, чтобы бросить им братский взгляд, чем чтобы восхищаться ими.
Другой маршрут ведет нас на Новодевичье кладбище.
Здесь похоронены многие великие люди России. Как и все православные кладбища — это чудесный сад. Нет ничего печального или холодного в этом пространстве, где мы бродим, перебирая имена, обрывки стихов или музыки. Мы всегда подолгу стоим у могилы Чехова, для меня — одного из самых великих. Ему я особенно благодарна за то, что он мне дал самое сильное счастье в моей театральной жизни, когда я играла в «Трех сестрах» с моими сестрами Одиль Версуа и Элен Валье. И ведь, снимаясь в фильме о Чехове — «Сюжет для небольшого рассказа», — я встретила тебя, полюбила и вышла за тебя замуж…
Но самый любимый, не меняющийся с годами маршрут проходит через несколько домов за городом. Мы идем поприветствовать старого физика, покровителя искусств — академика Капицу. У него дома стоит «вертушка», и он может напрямую разговаривать с великими мира сего — вещь невозможная для обычного смертного. Благодаря ему много раз удавалось в самой крайней ситуации спасти спектакль.
Его взгляд остается в моей памяти, удивительно нежный и сияющий.
Иногда мы идем на дачу к Пастернаку. Здесь нас принимает Бриджит Анжерер — молодая французская пианистка, ученица хозяина дома, Станислава Нейгауза, твоего собрата по саморазрушению. Этот дом хранит в себе сокровища ослепительной и трагической эпохи двадцатых-тридцатых годов. Мы вместе идем на Переделкинское кладбище поклониться могиле Пастернака. Он так и не сдался, его профиль на барельефе выражает гордость и решимость, которые были присущи ему всю жизнь.
Потом мы делаем крюк через заваленную всяким хламом, но уютную дачу Беллы Ахмадулиной. Атмосфера здесь совершенно иная. Чувствуется, что внешний вид дома не имеет никакого значения для хозяев. Мебель здесь совершенно случайная, чистота сомнительная. Кошки и собаки играют прямо на кроватях с детьми поэтессы. На стене прикноплена немного скрючившаяся фотография — это двое очень близких друзей: Булат Окуджава в черном костюме и его жена с начесом и в короткой юбке. Как говорит Булат: «Это когда мы были старыми, в шестидесятом!» Булатик, как мы между собой его называем, — твой «первый в связке». Он первым нарвался на неприятности автора-композитора и исполнителя, профессии, которая не являлась таковой в СССР. Он был одним из немногих, кто всегда тебя поддерживал и защищал.