В 1912 году отец отошел на несколько лет от политической работы, вплоть до Февральской революции 1917 года. Как и почему так получилось — не знаю. Все эти годы он был занят страховым делом в самом большом страховом обществе «Россия», а потом, уже на моей памяти, в качестве окружного инспектора Российского транспортного и страхового общества (не знаю, почему оно так странно называлось). В его ведении оставалось все то же Поволжье, ему пришлось обзавестись целой группой помощников и сотрудников (о чем я уже рассказывал). Он сам постоянно ездил по делам по всем своим «владениям», и мы видели его не слишком много.
Когда произошла Февральская революция, в Саратове, как и везде, сложилось двоевластие — уполномоченные Временного правительства и Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Этот Совет назначил моего отца Has’ чальником милиции — так тогда назвали народное ополчение, созванное для поддержания общественного порядка. Представители Временного правительства, видимо, хотели установить какой‑то контакт с моим отцом: к нему явилась целая делегация во главе с главным руководителем местной власти Временного правительства, толстым важным человеком с большой бородой, по фамилии Топуридзе (я это видел собственными глазами), но контакта не получилось, как сказал отец, когда они ушли.
Летом 1918 года отец поехал в свою последнюю командировку по страховым делам, в Царицын и Астрахань, и взял меня с собой (мне было 13 лет). Мы отправились на белоснежном пароходе компании «Самолет», и я насладился в полную меру, любуясь Волгой, особенно в ее самом нижнем течении. В Царицыне мы прожили целый месяц, потом отплыли в Астрахань, но там нам сойти с парохода не удалось: в городе была паника, к нему приближались какие‑то белогвардейские части, и мы тут же уплыли прочь вверх по Волге в Саратов. Осенью отец был арестован местными советскими властями за то, что был начальником милиции при Временном правительстве, он месяц просидел на барже, стоявшей на якоре посреди Волги, пока не разобрались, что он был назначен на этот пост Советом депутатов. Тогда его выпустили, и он тотчас уехал в Москву, опасаясь дальнейших неприятностей и не ожидая доброго согласия с новыми властями.
В Москве он прожил один без нас, у Самселей, до февраля 1922 года. Он сразу же восстановил свое членство в партии большевиков, называвшейся теперь Российской коммунистической партией (большевиков), и стал работать в Высшем совете народного хозяйства в качестве члена коллегии пожарно — страхового отдела. В этой роли ему пришлось заниматься ликвидацией дореволюционных страховых обществ, в том числе и того, в котором сам работал, потом возглавлять всероссийский съезд пожарно — страховых работников (у меня сохранилась фотография всего состава этого съезда, где мой отец в своей каракулевой круглой татарской шапочке сидит в самом центре посреди бравых пожарных с торчащими в стороны острыми усами и пожилых бритых страховых деятелей в очках и фетровых шляпах). Через какое‑то время отец перешел в том же ВСНХ в Главное управление по топливу и в роли начальника статистического отдела каждое утро должен был докладывать Ленину о состоянии запасов угля и нефти. По этим докладам часто передвигались фронты гражданской войны, чтобы занять какой‑нибудь район, богатый углем или нефтью. От этого времени в бумагах отца сохранились деловые письма, подписанные Рыковым, Ломовым, Красиным; я знаю, что он работал в это время также с Берзиным, Смилгой, Ксандровым. Он стал популярным пропагандистом Бауманского райкома — сохранилось множество направленных ему путевок на разные заводы или институты, с предложением такого‑то числа прочесть там‑то доклад на какую‑нибудь актуальную тему (например, о докладе Троцкого на очередном съезде партии).
Когда Ленин объявил новую экономическую политику, отец был назначен председателем правления вновь организованного огромного банка. Этот банк был организован по распоряжению Ленина как главный финансовый нерв объявленной им новой экономической политики. И моего отца, которого Ленин знал лично, он предложил Рыкову и Сокольникову назначить председателем этого нового банка, считая, что хоть он и не финансист, а ученый — химик, но у него «голова на месте». С А. И. Рыковым, умным и прелестным человеком, отец был дружен с давних саратовских времен первых лет нашего века, так что он, конечно, поддержал такое, казалось бы странное назначение. И, действительно, уже через год отец «ворочал» сотнями миллионов рублей. Во главе Московского учетного общества взаимного кредита он пробыл до середины 1926 года, но не сохранил ни единой бумаги, относящейся к делам этого банка. Он был по всем своим желаниям ученый — химик (и стал им с 1930 года на всю остальную жизнь), никогда финансовыми делами не занимался, но тогда с этим не больно считались. Во всяком случае, как он сам рассказывал, уже через год он «ворочал» девятизначными числами рублей и с удовольствием рассказывал, как он делал годичный доклад перед обширной аудиторией и в зале вдруг начался какой‑то глухой шум. Человек, ведший собрание, прервал отца на минуту, подошел и заглянул в кафедру и крикнул в зал: «У него нет никаких записей!» Отец помнил огромные суммы наизусть! У него была действительно необыкновенная память.
Но Ленин умер, Рыков был убран с поста председателя Совнаркома, и однажды осенью 1926 года отец, взяв утром в руки «Правду», с удивлением обнаружил официальное сообщение, предлагающее не считать действительными членские билеты механически выбывших из партии нижепоименованных лиц — среди которых оказалось и его имя. Отец пошел в райком выяснить, в чем дело, и, вернувшись, рассказал мне, что так как он был чуть ли не единственным членом партии в своем огромном банке и потому никакой собственной парторганизации в банке не было, он должен был платить членские взносы в райкоме, а на этот раз просрочил это сделать за два месяца, вот его в райкоме механически и исключили, а назад не берут.
Только теперь, после установления правды о нашей истории послеоктябрьских времен, стало ясно, что дело было много глубже просрочки уплаты членского взноса — исключение из партии председателя одного из главных опорных пунктов новой экономической политики знаменовало начало ликвидации этой новой экономической политики, во всем противоположной социализму, — начало контрреволюции Сталина.
Отец был очень удивлен, когда я сказал ему, что это исключение было не бедой, как он всегда считал, а его великим счастьем, потому что когда он ушел из банка, про него забыли, и его обошли сталинские репрессии. Он согласился с моими словами. В партийных кругах о нем совсем забыли, и то, что в 1926 году он воспринял как великое несчастье и глубокое оскорбление (он ведь был членом РСДРП, а потом большевиком с 1898 года!), обернулось великим благодеянием: ведь все, с кем он работал в двадцатые годы — Рыков, Томский, Красин, Ломов, Смилга, Берзин, Ксандров и другие, — все исчезли в 1937 или 1938 годах!
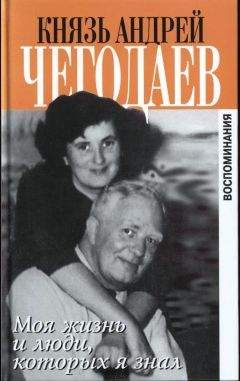
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


