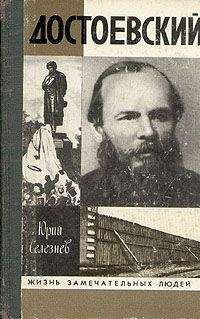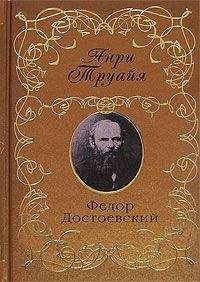Весть о явлении «нового Гоголя» скоро стала достоянием чуть ли не всего читающего Петербурга, сам же «Гоголь» настолько устал, что лучшим для себя посчитал уехать на время к брату, успокоить нервы, передохнуть, оглядеться. А уже через несколько дней немецкие родственники Михаила Михайловича посматривали на его петербургского братца с настороженностью и даже опаской. Да и сам Михаил забеспокоился — не настолько ли перенапрягся бедный Федор, что... порою так и кажется — не брат перед ним, а кто-то другой: внешне тот же — русый, сероглазый, только очень уж бледный и отощал — нелегка столичная жизнь без службы, без доходов, но, с другой стороны, и как будто подменили его: ведет себя странно, то ли ущемлен чем, то ли ерничает: «Ты, братец, ты, верно, ошибаешься, братец... Не изволь беспокоиться, братец... Никак невозможно-с... Не велено-с, братец...» Не обидели чем его? А то еще напыжится и ни с того ни с сего: «А не послать ли нам за шампанским, братец, устрицами и плодами к Елисееву?» Какое там шампанское — концы с концами свести бы, да и откуда в Ревеле Елисееву взяться?.. Смеется он, что ли, над нами? А Федор только хохочет да поглядывает хитро. «Знаешь, брат, — объяснился наконец, — это не я, это подлец Голядкин моим голосом говорит; живет во мне, словно я ему и квартира, и диван, и карета, а между тем сам по себе живет и со мною считаться не желает — вот так брякнет что-нибудь, а ты за него отвечай, и никакой управы на него нет...»
Он собирается роман новый писать; уже и название придумал — «Приключения господина Голядкина». Но, может быть, назовет «Двойник». Двойник — это идея, идея страшная, фантастическая и — реальная, современная... Гофман? Да, тут и Гофман, конечно, и «Двойник» Погорельского9, и «Сердце и думка» Александра Вельтмана, и несчастный Евгений из «Медного всадника», и, конечно же, Николай Васильевич! «Нос» — разве это не рассказ о двойнике человека, вытесняющем и почти полностью замещающем его в жизни? А его Поприщин? Сумасшедший? А почему сумасшедший, из-за чего сумасшедший? Мелкий чиновник, а в душе своей он — испанский король! А мы, мы разве не были и Шиллерами, и Александрами Македонскими, а вместе с тем донашивали третьегодичные штаны, и попробуй Шиллер заявить, что он Шиллер, явись он в приличное общество — вытолкнули бы его пинком в зад — каково Шиллеру-то?
«Бедные люди», восхитившие Белинского и круг его друзей, все-таки огорчили Достоевского: они воспринимались прежде всего как социальный роман, как глубокая картина подлой действительности, как драма «маленьких» бедных людей. Философская же суть романа отчего-то не воспринималась.
Ну, а ежели его герой был бы побогаче, имел бы про запас какую-никакую сумму, рублей в 700—800 — а ведь это приятная сумма, — желал бы я видеть теперь человека, для которого такая сумма была бы неприятна, с такой суммой можно не то что о шинели не беспокоиться, далеко пойти можно. Даже и карета была бы у него своя и слуга свой — как у родителя нашего, у папеньки, — он что же счастливым бы стал? Успокоился бы? Вспомнить, как отец всю жизнь бился, чтоб быть вровень со всеми, не уронить себя ни перед кем, чтобы быть «как все»? Что значит как все? Как кто? За дворянство бился, поместье купил, — а все же с уязвленным сознанием так и помер. Отчего? Каждый в этом мире за себя борется, как может, доказывая всем и себе: вот я живу, я имею значение сам по себе и ни от кого не зависим. Нет, тут не гофманская фантастика, тут самая что ни на есть повседневность. Быт, среда, общество... А быт нашей души, нашего сознания, это что — не реальность, не повседневная действительность? Да мы этим бытом каждую секунду живем, ни на миг от него освободиться не можем. И все что-то нас угнетает, все кто-то над нами усмехается, дергает нас за ниточки. Отец, положим, хороший врач был, но особых талантов не имел, как и тысячи и миллионы других вокруг, но вот Яков Петрович Бутков — и талант, и публикуется, чего еще, казалось бы? Ходи себе генералом — ан нет: через порог к Краевскому переступит — стушуется сразу, сробеет, словно голядка какая, спросишь о чем, — съежится, оглянется по сторонам, будто в каждом углу по шпиону... «Что это вы так, Яков Петрович?» А он: «Нельзя-с... начальство». — «Какое начальство?» — «Литературные генералы... Маленьким людям нельзя забывать-с, помнить надо, кто они есть...» — «Помилуйте, какие генералы? Да вы такой же литератор, да еще и даровитее многих!» — «Что тут даровитость? Я ведь кабальный...»
Краевский выкупил его, освободил от рекрутского набора и закабалил, присосался к его таланту.
Каждый от кого-нибудь зависит. А если и не знает, от кого точно, то уж знает от чего, но все равно зависит. И каждый ущемлен в своей гордости, каждому думается, что вот обошла его судьба, обидела, не дала того, к чему поманила однажды в затаенных мечтах его. Много ли человеку нужно? Шинели? Статского советника? На чем он остановиться захочет в стремлениях своих, где та черта, дойдя до которой скажет: «Ну вот, теперь я совсем доволен, и ничего мне больше не надо». Да и кто так скажет? Свинья какая-нибудь, а не человек! Человеку много надо... Бесконечно много. Шинель, чин статского советника и даже поприщенская фантазия об испанской мантии — все это только названия, образы, символы одного и того же — неупокоенности, ущемленности, гордой в своей униженности человеческой души.
А то и напротив бывает: взять хоть Белинского. Вот уж талантище, первый критик, ума палата — дай бог десятку генералам, и что? При генералах сам робеет. А как живет — нужно видеть. «Право, — говорит, — околеешь ночью, и никто не узнает...» Одна радость — полно цветов в квартире — сам ухаживает. Любит гречневую кашу, а бывает, ночи напролет — трудно поверить — дуется в преферанс с Некрасовым. Нет, Яков Петрович Голядкин — не Бутков, хоть все-таки и Яков Петрович, и не Белинский, не Некрасов, но он и не герой Гофмана — он просто сам по себе... как все. И кто что ни говори, а в каждом из нас сидит свой Голядкин и выглядывает из нас, так что и не разберешь иной раз, кто настоящий, а кто его двойник... Вот так-то-с, братец, не извольте-с, братец, утруждать себя беспокойством-с насчет наших умственных, так сказать, сдвигов, братец!
С ума сойдет? Как не сойти, если раздвоишься до того, что знать не сможешь, где на самом деле ты, а где — он? Я в медицине не силен, но, думаю, брат, что нередко признаваемое помешательством есть только иной взгляд на вещи. Чаадаева вон сумасшедшим признали как Чацкого; Лермонтова, говорят, после стихов на смерть Пушкина тоже на сей предмет освидетельствовали...
И что, как не помешательство было — на Неве, зимой прошлого года; с того и начались «Бедные люди». Я, брат, не о всех горемыках домов умалишенных говорю, но и как при своем уме остаться, ежели он, этот ум, всю великость души человеческой схватить и осмыслить не может.