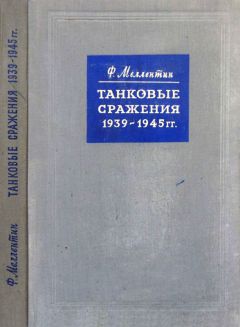У первых домов рижского пригорода Торенсберг нас настигает приказ. Нас снимают с наступления и перебрасывают на юго-восток. Наш батальон должен наступать через Бад-Бальдон, Нойгут до Фридрихштадта, и там сковать большевиков с фланга, чтобы ослабить давление противника на Брандиса. Очень рано лейтенант Вут разбудил меня. Патруль должен был прощупать противника до Нойгута, одно отделение гамбуржцев и мой пулемет. Рота немедленно следовала за нами на крестьянских телегах, которые были реквизированы еще ночью. Было три часа утра и уже светло, когда мы вошли на двор и залезли на три телеги, которые там стояли. Отделение гамбуржцев ехала впереди. Я должен был еще упаковать патроны и потом догонять их. На смотровой вышке Бад-Бальдона кто-то крикнул мне вниз, что Нойгут, вероятно, уже взят. Наверху с вышки можно было отчетливо видеть городок с его расстрелянной церковью.
Мы сидели несколько туповато и небрежно, без портупеи, на наших телегах. Крестьянская лошадь весело спешила вперед под своим высоким хомутом. Маленькие, поросшие лесом, холмы Бад-Бальдона свежо и мило лежали в просыпающемся дне. Это же было так прекрасно въезжать в утро, в этот чудесный, мирный ландшафт. Напряжение дней наступления благотворно растворялось. Все было очень само собой разумеющимся. За мной, на обратной стороне телеги, Бестманн и Гольке, два солдата моего расчета, приглушенно и убаюкивающе беседовали о войне. Оба были старыми солдатами, прошли всю войну на западе. Известные имена как издалека долетали к моему заспанному уху. Один говорил о Дуамоне — правильно, капитан фон Брандис, который теперь лежал там позади с его корпусом одиноко в бою и о котором рассказывали, что его можно было увидеть только в двух состояниях — либо в бою, либо пьяным — так вот он был одним из знаменитых бойцов штурмовых отрядов под Дуамоном. Я закрыл глаза и позволил приятно монотонным речам журчать в мое ухо. Теперь все эти названия, которые падали там как неуклюжие камни в ленивое озеро, Фландрия и Верден, Сомма и Шмен-де-Дам, все эти страшные, наполненные кровью и железом названия, теперь равнодушно произносились солдатами, которых связывало с ними пережитое, о котором у меня могло быть только отдаленное, слабое представление, все эти названия были почти оторваны от всякой действительности в этом залитом солнцем, приглушенно мерцающем ландшафте, и тем более убедительно демонстрировали таким образом картину глубокого, насыщенного спокойствия. Бестманн и Гольке болтали, как будто чтобы стряхнуть себе темные тени с души, но постепенно стали говорить все более односложно, и, наконец, Гольке с небольшим вздохом сказал в заключение: — То, что здесь, это не война. Они молчали довольно долго. Жаворонок взлетел над полем. На мягкой спине холма можно было еще видеть как раз верхушку колокольни в Нойгуте.
— Если это здесь вовсе не война, то почему же вы тогда здесь? — спросил я лениво через плечо. — Ах, ты не понимаешь, — сказал Бестманн с превосходством старого солдата, — здесь это как бы переход. Война еще долго не кончится. Война не закончится никогда. По крайней мере, мы до ее конца не дотянем. — Тут ты прав, — подчеркнул Гольке, — просто, что нам делать в Германии? Нет, туда мы уже больше не подходим. Они там думают, что война окончилась. Да, черт, пока мы проиграли, война не окончилась. — Это в руках Божьих, — сказал Бестманн, — а теперь я еще немного вздремну, и прислонил голову к ящику с патронами и закрыл глаза. Другой молчал. Колеса лениво вращались в песке.
Передо мной трусили обе других крестьянских телеги. Спустя долгое время они остановились. Унтер-офицер гамбуржцев Эбельт подошел ко мне и заметил, что теперь нам следовало бы спрыгнуть с телег и прокрадываться к Нойгуту — Ах, да ну, — проворчал я, — там же ничего не происходит. Мы уж точно заметим это, если по нам начнут стрелять. Эбельт засмеялся: — Тогда двигаемся дальше. И мы двигались дальше, немного внимательнее, чем до сих пор. Но ничего не шевелилось в Нойгуте.
Первые дома появились на дороге. Мы с удовольствием бежали вперед. Несколько кур перепорхнуло через забор. — Эй, пан, — закричал Эбельт и щелкнул плеткой. Из двери первого дома высунулся взлохмаченный крестьянин и сразу исчез, когда увидел нас. Эбельт засмеялся, и мы двинулись дальше. Скоро мы были в городке. Никого нельзя было увидеть. Все же, в одном из домов возле рынка у окна стояла девушка; Эбельт окликнул ее, и она также немедленно вышла. Это была очень красивая девушка, одетая по-городскому, не какая-то там латышская деревенщина. Мы все широко раскрыли глаза. И девушка говорила по-немецки! Господь Бог, у нее был звучный голос! Нет, большевиков уже не было, слава Богу, ушли еще вчера вечером. Вероятно, там сзади на фольварках, там еще могли бы быть некоторые. Она беженка. Живет у аптекаря. Нет, она сама русская, но аптекарь — балтийский немец. Красные плохо вели себя в городке. — Но теперь вы же тут, — смеялась она. Эбельт хрюкнул удовлетворено. Но нам нужно осмотреть все вплоть до фольварков. Потом мы вернемся. — Значит, пока, — кивнула она и махала вслед нам, когда мы катились дальше.
Мы видели только немного людей, латышей. Они не понимали нас или не хотели нас понимать.
— Большевик никс, — говорили они.
Мы поверили им и поехали к фольваркам. Там тоже не было большевиков. Эбельт не захотел возвращаться назад по той же дороге. Он хотел сначала пронюхать все по Каштановой аллее до церкви и за ней, нет ли там красногвардейцев. Оттуда должна была еще вести дорога к рынку. Прямо от аптеки ведь ответвлялась узкая улица. Ему только нужно съездить до церкви, поспешно сказал я, да, пожалуй, ему сначала нужно туда. Я буду ждать его у аптеки. Эбельт, кажется, медлил. Потом он ухмыльнулся, кивнул и свернул. Я повернул телегу и вернулся назад. Боже, мир действительно прекрасен.
Я сидел на телеги впереди. Другие сидели сзади, уютно свесив ноги. Отсюда уже прекрасно была видна аптека. Телега с глухим треском двигалась по жалкому булыжнику к дому.
Вдруг громкий щелчок перерезал все нити. Совсем рядом, почти возле уха он поднял нас. Крестьянская лошадь внезапно дернулась, потом понеслась вперед. Я слетел с телеги, споткнулся, упал в грязь, и был окружен, как в хороводе, оборванными красногвардейцами, которые махали своими винтовками и стоя стреляли вслед мчавшейся прочь телеге. Трое, четверо набросились на меня, избили и утащили. Я попал в плен.
Я едва знал, что произошло. Один ударил меня плеткой или палкой по лицу и что-то спрашивал. Я не понимал его, вообще, я ничего не понимал, в моем мозгу шумело только одно: «Я попал в плен, это невозможно, меня поймали». Они кричали на меня, меня таскали туда-сюда, и вдруг я стоял у стены. Она была белой и солнце мерцало на ней.