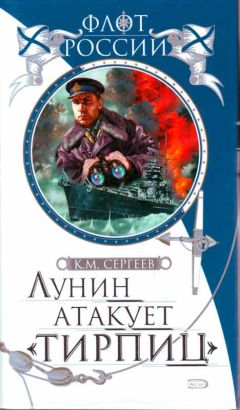В нашем штабе все были подавлены и обмануты в своих воскресших было надеждах. Мы почти ничего не знали о событиях, происходивших вне пределов «котла». Но интуиция подсказывала нам, что была упущена последняя мыслимая возможность спасения. Как знать, быть может, прорыв и удался бы, если бы мы вновь не упустили момент, когда можно и нужно было все поставить на карту. Но теперь уже было поздно – момент этот миновал безвозвратно{38*}.
Рождество и Новый год в «котле»
Мало-помалу на всех участках «котла» разговоры о подходившем Манштейне прекратились. У нас в штабах больше уже не было новых известий о том, как развивается операция по освобождению окруженной армии, которые мы могли сообщить в части. Да это и не поощрялось, а потом и вовсе было запрещено. Об общей обстановке на фронте мы и сами теперь знали мало. Наши тягостные будни со всеми их страданиями, лишениями, хлопотами и опасностями напоминали о себе каждую минуту и требовали предельного напряжения сил. Разумеется, некоторые горячие головы на передовой долго еще судачили о самых невероятных планах выхода нашей армии из кольца. Но разговоры эти, понятное дело, были порождены своеобразным «оптимизмом отчаяния», цеплявшимся за любую соломинку и принимавшим желаемое за действительное. Впрочем, иногда это было лишь плодом болезненного воображения. Так, возникали иногда дикие слухи: находились люди, уверявшие, что они явственно слышали из-за русских позиций с той стороны Дона нарастающий гром нашей артиллерии и далекий лязг и скрежет гусениц спешивших нам на выручку танков.
Что касается нас, то в своем узком кругу мы уже не питали никаких иллюзий и считали наше положение совершенно безнадежным. Фронт отодвинулся далеко на запад, и ни о какой операции по выводу нас из кольца сейчас не приходилось и думать. Окруженная на берегах Волги и в пустынных придонских степях, армия была теперь предоставлена самой себе. В самом деле, фронт, в котором русские пробили тем временем новые бреши, отстоял от нас теперь на сотни километров; снабжение по воздуху, и без того совершенно недостаточное, в результате последних событий значительно ухудшилось, суровая русская зима была в самом разгаре. Мы задавались вопросом: удастся ли нам продержаться хотя бы еще несколько недель? И отвечали сами себе: навряд ли! Голод, холод и болезни подтачивали последние силы армии – смерть собирала обильную жатву не только на передовой у огнедышащего стального кольца. Для операции по прорыву кольца окружения изнутри теперь уже не было сколько-нибудь благоприятных предпосылок. При попытке прорыва наша армия из-за нехватки горючего (не говоря уже о других причинах) могла бы продвинуться лишь на несколько километров и потом безнадежно застряла бы в снегах. А как поступить в случае эвакуации Сталинграда с сонмом раненых, больных и истощенных, число которых росло с каждым днем? Да и вообще входил ли в планы главного командования сухопутных сил уход с берегов Волги? Поступавшие до этих пор приказы свидетельствовали об обратном. Я вновь и вновь вспоминал фанатичные заявления Гитлера о немецких солдатах, о Волге и Сталинграде, и мороз пробегал у меня по коже. Быть может, он только того и хотел теперь, чтобы мы сражались до конца, до последнего патрона, не отходя ни на шаг назад. Призрак неотвратимой катастрофы поднимался на сумрачном горизонте.
В такой-то атмосфере отчаяния и окончательного крушения всех надежд и пришло рождество. Для многих десятков тысяч несчастных людей, испытывавших в «котле» неимоверные страдания и долгие годы не видевших своих родных и близких, оно, бесспорно, было самым печальным рождеством в их жизни. Наступил сочельник. Все физические и душевные раны, на которые обрекла нас злая судьба в эту ночь, болели и жгли сильнее, чем обычно. Настроение было подавленное. Почти ничто не напоминало о привычном блеске и очаровании милого сердцу старого праздника. Не пришла и почта, которую мы в этот день ждали с удвоенным нетерпением, – и это было особенно тяжело. Никто не мог сказать, когда мы получим теперь весточку от родных и близких и получим ли вообще.
Письма не поступали уже неделями, а их отсутствие на рождество я переживал особенно мучительно, памятуя о том, что наши перспективы становились все мрачней и мрачней. За все это время лишь один раз транспортный самолет доставил относительно большую почту. Тогда мы получили письма, написанные в начале ноября. Позже, в дни предрождественского поста кто-то из вернувшихся в «котел» отпускников нежданно-негаданно, к моей величайшей радости, занес в мою землянку маленькую празднично разукрашенную (как видно, заранее) коробку – посылку от матери. В ней было домашнее печенье, пахнувшее мятой и ванилью. По всей вероятности, это была единственная посылка с рождественским печеньем, дошедшая в «котел» – в далекие донские степи. Теперь же почты, судя по всему, ждать больше не приходилось. Казалось, оборвались последние нити, связывавшие нас с родиной и семьями. Солдатская дружба, сколь бы крепка она ни была, не могла больше заглушить растущего чувства полного и беспросветного одиночества.
Рождество мы отпраздновали в кругу офицеров оперативного и разведывательного отделов штаба корпуса, которые к тому времени переселились в одну из степных балок, неподалеку от Питомника. По приказанию командира корпуса в балке был возведен целый поселок из блиндажей и землянок. Вдали от постоянной суеты аэродрома, надежно укрытые от воздушных налетов, мы могли здесь спокойно работать. И все же первое посещение этого городка, на поспешное сооружение которого была брошена целая саперная часть, вызвало у меня тягостные мысли. В нашем положении, когда никто не был уверен в завтрашнем дне, а солдаты на передовых были лишены не только материалов для оборонительных сооружений и укрытий, но и всего насущно необходимого, новая штаб-квартира казалась мне ненужной и непозволительной роскошью. Да и вообще, спрашивал я себя, суждено ли нам обосноваться здесь надолго?
Командир корпуса обратился к нам с кратким приветственным словом. Только что пожалованная ему высокая награда – «Дубовые листья к рыцарскому кресту», – казалось, не больно-то радовала его. Во всяком случае, об этом старались не говорить. Праздник получился невеселый. Хорошее настроение не приходило. Не помогло и рождественское убранство генеральского блиндажа – пожелтевшие сосновые ветви, привезенные со Сталинградской окраины, мягкое пламя свечей и серебряные гирлянды, старательно склеенные из бумажной фольги (ее было достаточно в коробках из-под сигарет). Даже долгожданные дополнительные рационы табака, хлеба и конины не радовали нас. Былые рождественские праздники казались бесконечно далекими от нас в ту ночь. Призрачные воспоминания о них возникали как видения какого-то давно исчезнувшего мира, которые не могли заслонить от нас грозную действительность. Мы тихо спели с детства знакомые рождественские песни, и стало еще грустнее. Никто из нас ни на минуту не в силах был забыть хлопоты и опасности сегодняшнего дня, и веселье наше было деланным и вымученным. Все мы знали об истинном положении дел, и в этот рождественский вечер лишения и физические страдания, на которые мы были обречены, отступили перед терзаниями душевными – смутной тревогой, чувством неопределенности и страха.