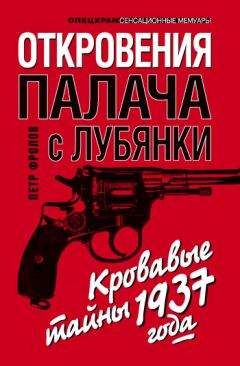На этот раз мой ответ состоял в основном из вопросов:
— Если мы агенты Британии, почему англичане не пускают нас в Эрец Исраэль? Почему они нас преследуют? Почему в последней Белой книге они заявили, что через несколько лет не пустят ни одного еврея в Эрец Исраэль? Если бы мы действительно служили интересам англичан, то по логике вещей они помогали бы нам, а не мешали. Но факт остается фактом: они мешают нам на каждом шагу. Факт остается фактом: перед началом войны нам пришлось прорвать британскую блокаду и, подобно Гарибальди, высадить людей на берег Эрец Исраэль.
— Ну-ну, не сравнивайте себя с Гарибальди. Знаете, кем был Гарибальди? Это настоящий борец за свободу, его движение было прогрессивное, а ваше — насквозь реакционное.
Впервые мне стало известно, что в советских политшколах восхваляют деятельность Гарибальди. Оказывается, Гарибальди был носителем прогресса, а не ставленником международной буржуазии, диверсантом, которому поручили привлечь внимание итальянских рабочих к несуществующей стране — объединенной и независимой Италии. Повезло человеку! Гарибальди жил в 19-м веке и успел умереть до НКВД, иначе…
Неожиданно следователь сменил пластинку:
— Определите точно, настаиваю на точности, какова была ваша роль в организации?
Он уже задавал этот вопрос и получил подробный ответ. Теперь: «Определите мне точно».
На этот раз я воспользовался польским названием своей должности, вставив его в русское предложение:
— Я был комендантом Бейтара в Польше.
— Кем? Комендантом? — сердито и удивленно переспросил следователь. — Ведь вы говорили, что руководили всей деятельностью организации, то есть были кем-то вроде генерального секретаря, а теперь утверждаете, что были комендантом.
Я ничего не понял. Не понял ни его неожиданного недовольства, ни удивления, ни последнего вопроса. Разве это не талмудизм?
— Я, гражданин следователь, не отказываюсь от своих прежних показаний. Я говорил раньше и говорю теперь, что отвечал за деятельность Бейтара в Польше, был комендантом организации, председателем движения во всей стране.
— Так и говорите, — облегченно вздохнул следователь. — Вы были председателем организации, генеральным секретарем, но не комендантом!
Снова я ничего не понял.
Только спустя много дней, лежа на жестких нарах одного из бараков Печорлага на зеленом берегу Печоры, я задумался над словами следователя и понял, в чем было дело. В Советском Союзе комендант — это административно-хозяйственная должность. Следователь, видимо, испугался, что я пытаюсь уйти от ответственности, выдавая себя за ответственного по уборке помещений организации Бейтар.
В третью ночь беседа не затянулась, как это было в присутствии переводчика. Покончив с «комендантом», следователь со свойственной ему аккуратностью разгладил лежавшие перед ним листы бумаги и принялся записывать. Я снова превратился в пассивного наблюдателя.
Через некоторое время следователь оторвался от бумаг и сказал:
— Я пишу «колонизация земель», но знайте, что «колониализм» и «колонизация» — это одно и то же.
Пусть так.
Кончив писать, следователь зачитал мне вопросы и ответы. Я слушал очень внимательно и, к своему изумлению, обнаружил, что один из пунктов нашей программы звучит приблизительно так: «Попытка Советского Союза заселить Биробиджан не удалась. В этой автономной области проживает от тридцати до сорока тысяч человек. Этот эксперимент не может быть успешным, так как Биробиджан не является родиной для евреев».
— В программе нашего движения такого пункта не было, гражданин следователь, — сказал я ему.
— Как это не было? Вы же сами это сказали? Переводчик тоже слышал.
— Верно, но это мысль, которую я высказал в споре. Вам, гражданин следователь, конечно, знакомо выражение: Gedanken sind zollfrei.
— Это по-немецки, перевода я не знаю.
— «За мысли не платят», — сделал я вольный перевод, не найдя в своем словарном запасе подходящего русского слова.
— У нас, — тихо, но отчетливо сказал офицер НКВД, — за мысли платят, если они контрреволюционные, и мы эти мысли знаем.
Я не мог, разумеется, отрицать сказанного. Правда, я сказал это в ходе спора, но сказал. Даже в душе не мог я обвинить следователя в фальсификации.
Особое совещание НКВД в любом случае дало бы мне тот же срок — с Биробиджаном или без него. Но в эту ночь я тоже многому научился: «беседа» — это не беседа. «Беседа» — пусть она ведется в самых вежливых тонах — это всегда допрос. А «у нас — и за мысли платят»…
7. НОЧНЫЕ ДОПРОСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Ночные допросы продолжались. Иногда с перерывами, иногда один за другим, беспрерывно.
Однажды мне пришла в голову мысль, которую я высказал вслух.
— Гражданин следователь, — сказал я, — до ареста я читал Советскую Конституцию, и, если не ошибаюсь, есть в ней параграф, гарантирующий защиту иностранным гражданам, подвергшимся преследованиям за национально-освободительную борьбу. Думаю, я отношусь к этой категории лиц. Всю свою жизнь я посвятил национальному освобождению своего народа и в Вильнюс прибыл из-за преследований нацистов — врагов еврейского народа. Если бы я остался в Варшаве, немцы, без сомнения, казнили бы меня одним из первых. По Конституции я в Советском Союзе должен получить убежище, а не сидеть в тюрьме.
Следователь до сих пор вел себя тихо, спокойно и вежливо, но тут лицо его — от моей наглой декларации — пошло пятнами. Он буквально вышел из себя. Никогда я не видел его таким сердитым. Последние остатки вежливости испарились. Он грохнул кулаком по столу и заорал:
— Что, Сталинскую Конституцию вы мне цитируете? А знаете, как вы себя ведете? Вы себя ведете, как тот международный шпион, бешеный пес и враг человечества — Бухарин! Да-да, вы делаете буквально то же, что делал Бухарин. Он находил какое-нибудь место в сочинениях Маркса и говорил: «Видите, я был прав. Так писал Маркс». Но Сталин учит, что нельзя опираться на вырванные из контекста фразы. Иначе вместо доказательств получается большое надувательство. Да, имеется в Конституции такой параграф, но имеется и много других, и все их надо видеть в целом. Слышите? — продолжал греметь сердитый голос следователя. — Умник нашелся, цитирует Конституцию и этим хочет убедить меня. — Следует ругательство. — Вот!
Я поразился его бурной реакции. Никак не мог понять, почему следователя вывел из себя именно этот наивный, пожалуй, даже слишком наивный, вопрос. Не мог он, что ли, ответить спокойно: «Этот параграф на вас не распространяется». Но он не только кричал и стучал кулаком по столу, подвергая опасности графин; в ту ночь следователь впервые выругался матом, и это сразу уменьшило в моих глазах значение поднятого вопроса о параграфе Конституции. Я сказал следователю, что процитировал не обрывочное предложение, а целый параграф, который может быть рассмотрен отдельно от других параграфов. По существу вопроса я спорить больше не стал. Чем мог этот спор помочь мне? Но с грубыми ругательствами я решил не мириться и сказал следователю: