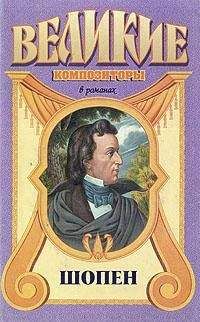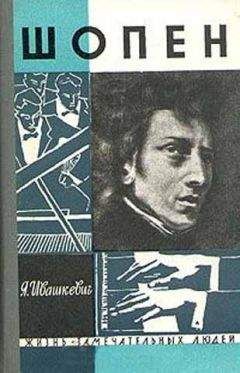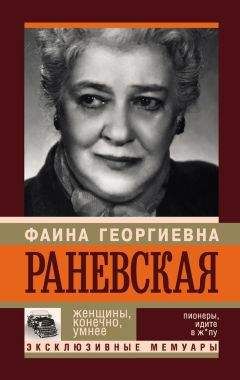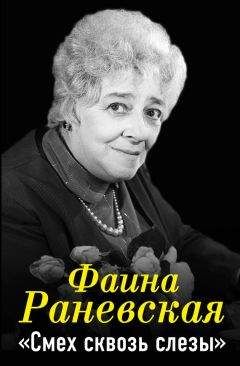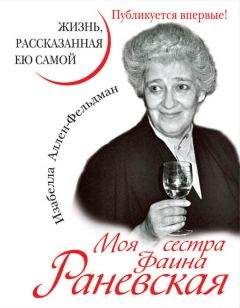Когда Фридерик возвращался домой с отцом, маленький Еугениуш, улучив минуту, прошептал ему:
– Извините, пан Фрицек, вы не велели мне говорить, где вы гуляете, я проговорился! – Фридерик сказал рассеянно: – Ах ты, гадкий мальчишка! – В гостиной он застал профессора Яроцкого, который с легкой улыбкой выслушивал наказы пани Юстыны. Сестры уже хлопотали и суетились, готовя брата в первое далекое путешествие.
В гостинице, после завтрака, пан Яроцкий сказал Шопену:
– Теперь я пойду по своим делам, а тебя оставлю одного. Ты благоразумный хлопец и, надеюсь, не сконфузишь меня перед родителями!
В Берлине они виделись довольно редко: Яроцкий был занят на съезде, а Фридерик целые дни бродил по огромному городу.
С утра он гулял, любуясь величественными улицами и мостами. Был сентябрь, а солнце светило и грело по-летнему. Никто не обращал на него внимания. Бродить одному, затерянному среди толпы, было удивительно приятно. Его опьяняло сознание собственной молодости и свободы.
Разумеется, прежде всего он зашел в музыкал магазин – познакомиться с новинками. Там он неожиданно нашел свое первое рондо, изданное в Вене. Значит, оно попало и сюда! Он развернул ноты. На заглавном листе крупными буквами значилось посвящение: «Графине Александрине де Мориоль». Фридерик покраснел и оглянулся. Но два посетителя, которые рассматривали витрину, не обратили на него никакого внимания.
Он перелистывал свое рондо как посторонний. Ей-богу, ничего! Это был романтический дневник – впечатления деревенской жизни. Подобно скрипачу в Шафарне или в Желязовой Воле, он связывал различные эпизоды и вдруг обрывал их: «Ксеб!», «От сиб!» Это было весело, а мечтательные напевы только оттеняли бьющее через край оживление.
Но он пришел в музыкальный магазин не для того, чтобы рассматривать свое собственное рондо. Он скоро оставил его. Превосходно изданная партитура привлекла его внимание. То была симфоническая увертюра некоего Мендельсона к пьесе «Сон в летнюю ночь». Теперь Фридерик вспомнил, что слышал имя Мендельсона в театре. Его знали в Берлине, – стало быть, он крупный мастер. В этом можно было убедиться, рассматривая увертюру. Фридерик не чувствовал тяготения к оркестру, что очень огорчало Эльснера, но увертюра «Сон в летнюю ночь» могла поразить любого музыканта. Наследник классических традиций, этот Мендельсон в душе был романтиком! Поэтически раскрывалась здесь жизнь сказочного леса; бархатистые звуки деревянных духовых оживленно перелетали с места на место и перекликались, как эльфы в свите Оберона и Титании. Это не был бесплотный мир, созданный одним только воображением, этот мир, пробуждающий мечты, был живой, истинный. И что-то величественное, торжественное слышалось в этой музыке, какой-то властный зов, раздающийся из глубины леса… Целый час Фридерик просидел за фортепиано, разбирая увертюру, а потом пошел в городскую библиотеку, чтобы еще раз перечитать великолепную сказку Шекспира.
После обеда в гостинице Фридерик засыпал, утомленный впечатлениями дня, а вечером шел в оперу или в концерт. Он слушал оратории Генделя, оперы Спонтини, «Тайный брак» Чимарозы и веберовского «Волшебного стрелка», о котором мечтал в Варшаве. Знакомый с партитурами, он мог судить и об исполнении. Оно было хорошо, но не безукоризненно. Певицы, как и варшавские примадонны, вольно обращались со своими партиями: что было им не под силу, пропускали, иногда же вставляли целые куски, написанные современными композиторами по их заказу. И все-таки «Волшебный стрелок» пленил Фридерика: здесь немцы были в своей стихии, как он сам среди Мазуров и краковяков.
Запомнился ему прощальный обед натуралистов, куда Яроцкий взял его с собой. На председательском месте восседал директор певческой академии, друг Гёте Цельтер. Он больше всех походил на ученого. Рядом сидел юноша, почти мальчик, очень серьезный, с умными, проницательными глазами, но, должно быть, неспокойный по натуре: он нервически подергивал шеей, когда ученые принимались петь хором и стучать ложками о свои стаканы. После съезда они забывали про свою ученость, дурачились и веселились, как дети, пели студенческие песни и громко смеялись чужим и своим шуткам. Фридерик предусмотрительно захватил с собой рисовальный альбом, куда уже были занесены берлинские карикатуры. Встав из-за стола, он уселся в углу и принялся за новые наброски.
В первые дни Яроцкий знакомил его со многими берлинскими знаменитостями. Теперь он хотел представить Фридерика Цельтеру и Спонтини – двум музыкальным «зубрам». – Кстати, познакомишься с Мендельсоном, – сказал Яроцкий, – он тоже здесь. – Фридерик удивился, что о Мендельсоне упомянуто вскользь и как будто небрежно. Мендельсон внушал ему большее уважение, чем все другие берлинские музыканты, вместе взятые. Таково было действие «Сна в летнюю ночь».
Лучше подождем, пока я вырасту, – оказал Фридерик, принужденно улыбаясь. Яроцкий широк открыл глаза. – Да ты посмотри на него! – И он указал на юношу, сидевшего рядом с Цельтером: – Вот тебе и Мендельсон! – Сколько же ему лет? – Сам видишь. Столько же, сколько и тебе! Может быть, на год больше. – Ну, теперь-то я и подавно не стану с ним знакомиться! – Отчего же? – возразил Яроцкий, – что ж такого? У него своя дорога, у тебя своя! – Но Шопен стоял на своем. Мендельсон ему понравился, но «Сон в летнюю ночь» не мог написать мальчик в его возрасте. Он казался нереальным, и трудно было найти слова для общения с ним.
Так знакомство на этот раз не состоялось. Но увертюру Мендельсона Фридерик купил в двух экземплярах, чтобы один из них подарить Эльснеру.
После Берлина его встретила шумная варшавская зима, даже слишком шумная по сравнению с предыдущими годами. Что-то лихорадочное чувствовалось в ее веселье. Слишком много музыки, балов, приемов, иностранных гастролеров… Правда, были концерты-события. Этому способствовало географическое положение Варшавы. Иностранные артисты, устремляясь в богатый Петербург, всегда на пути останавливались в «третьей российской столице». Так в Варшаве появилась Каталани, потом Гуммель, в прошлом ученик Моцарта, а нынче уже немолодой, но энергичный виртуоз, очаровавший всех мечтательным, тонким и технически безукоризненным исполнением. В его поэтическом ля-минорном концерте соединились все наиболее привлекательные черты новейшего романтизма, те «ночные настроения», которые особенно привлекали молодежь.
Скрипач Кароль Липиньский и пианистка Мария Шимановская долго держали варшавян в плену. Это были соотечественники, добившиеся мировой известности, и Эльснер в своем патриотическом воодушевлении говорил даже, что не только их игру, но и про ведения можно считать образцами для подражания.