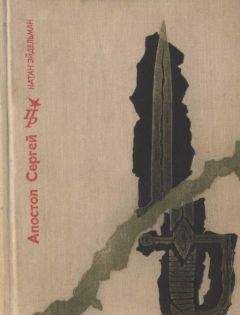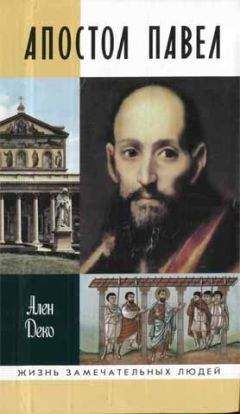Престарелый семеновец ворчит на «нынешнее племя», вспоминая счастливейшие дни своей жизни, когда купались в октябре, спали на снегу без всяких последствий, когда все были молоды, все были заодно и цель была так же проста и справедлива, как солдатская песня.
Может быть, он прав, что время было теплее?
Пушкин запишет о мальчиках:
Которые, пустясь в пятнадцать лет на воле,
Привыкли в трех войнах лишь к пороху да к полю.
В этих строках представлено много «пятнадцатилетних», но не все. А что же у всех? Чем отличался среднестатистический «сын 1812-го» от своих внуков, правнуков, отцов? Как уловить в их речах, записях, манерах, шутках, огорчениях нечто особенное, что позже, при подобных же обстоятельствах, иначе проявлялось?
«Дражайший родитель!
Весна в полном сиянии своем покрыла поля и луга зеленью и украсила разновидными цветами, но окрашенными кровью соотчичей наших! — Древы оделись листьями, представляют величественную картину атмосферы и изображают как бы вновь воскресшую природу; зефир, играя между листочков и порхая по деревьям, производит легкий шорох, словом, вся природа торжествует. — Один только человек, не делая подражания оной, забыл самого себя, влеком будучи своими страстями, стремится удовольствовать неистовые свои желания. Бонапарте, сей лютый корсиканец, разинув алчные свои челюсти, бросался много раз на непобедимое российское воинство, от коего зияющие его челюсти запеклись кровию и он был опрокинут…»
Это письмо неизвестного сочинителя, переписанное во многие альбомы. А вот другое:
«Молчание вселенной, дух природы, война — исторгают из нашей груди восторг, преданность и слезы».
Эти строки из дневника Александра Чичерина — молодого человека, который, если б не погиб в бою, верно, был бы с декабристами.
И наконец, третье письмо:
Сергей Муравьев-Апостол — отцу. 1813 год: «Милостивый государь батюшка.
Я был несколько дней тому назад в г. Франкфурте, где пребывает главная квартира государя императора, и нашел у графа Ожаровского письмо ваше к брату Матвею. Я осмелился его распечатать, потому что брата еще здесь нет, и спешу вас на его счет совершенно успокоить, ибо я уже знаю, что он совсем здоров и выехал уже из Праги полк свой догонять. Я надеюсь его через несколько дней здесь увидеть и уж более с ним не расставаться, потому что наш баталион теперь к гвардии прикомандирован. Он получил в награждение Анненскую шпагу; по говорят, что ее переменят и что дадут Владимирский крест. Дай бог, чтобы это сбылось. Если б то возможно было, я бы ему свой отдал: он его более меня заслужил.
Что до нас касается, милостивый государь батюшка, мы теперь спокойно стоим в г. Ганау, в окрестностях Рейна, где мы очень хорошо приняты жителями, которые так рады, что избавились от французского ига, что не знают, как нам благодарность свою изъявить. Мы теперь там отдыхаем после столь славной, но вместе и тяжкой кампании. Говорят, однако, что мы скоро пойдем вперед.
Несколько дней тому назад была здесь великая княгиня Екатерина Павловна, шеф нашего баталиона… Она со всеми говорила и благодарила нас за наше хорошее поведение во все время, и даже сказать изволила, что мы честь делаем ее имени, и что государь император в награждение за наши труды приказать изволил, чтобы мы с гвардией вместе остались…»
Если б не «кампания», «крест», рана Матвея и то обстоятельство, что в батальоне Екатерины Павловны из 1000 человек вернулось домой 418,— если б не все это, письмо было бы вполне детским отчетом перед папенькой в благонравном поведении…
Но хватит примеров: таким путем нелегко доказать, какова была молодежь 1812 года. Ведь можно найти письма циничные, проникновенные, поэтические, бездарные… Но, прочитав или хоть просмотрев 10, 100, 1000 таких документов, причем написанных не выдающимися, а обыкновенными грамотными молодыми людьми, можно уловить нечто, именуемое «духом времени», хотя метод этот скорее эмоциональный, чем научный.
Мне вот каким представляется «сын 1812-го», юный, более или менее образованный дворянин, офицер: ему 15–20 лет, но он много взрослее своих сверстников из последующих поколений, служит, видал кровь и порох, выходил на дуэли, имел любовные приключения (или, по крайней мере, так утверждает), ездит верхом, фехтует, танцует, болтает по-французски, немало читал и слыхал еще больше.
Итак, молодые и ранние. Но эти прапорщики, поручики, воины и танцоры часто пишут так чувствительно, как в наши дни не решился бы зеленый школьник.
Ну, разумеется, надо сделать скидку на эпоху, стиль, сентиментализм, когда не скупились на «ах!» и «сколь!», «листочки» и «приятности». И все же эти юноши были и впрямь чувствительны, воображение их, по теории Ивана Матвеевича, наполняло мир красками.
«Из всех писателей, которых я читал в жизни, — признается Матвей Муравьев, — больше всего благодарности я питаю, бесспорно, к Стерну [4]. Я себя чувствовал более склонным к добру всякий раз, что оставлял его. Он меня сопровождал всюду. Он понял значение чувства, и это было в век, когда чувство поднимали на смех».
Это сочетание зрелости и детскости поражает при знакомстве с людьми, жившими полтора и более века назад.
Если есть эпохи детские и старческие, так это была — юная. Пушкин скажет: «Время славы и восторгов».
В счастливой строке, появившейся в одном из последних стихотворений Кюхельбекера, — целая глава русской истории…
Лицейские, ермоловцы, поэты…
Часто удивляются, откуда вдруг, «сразу» родилась великая русская литература? Почти у всех ее классиков, как заметил недавно писатель Сергей Залыгин, могла быть одна мать, родившая первенца — Пушкина в 1799-м, младшего — Льва Толстого в 1828-м (а между ними Тютчев — 1803, Гоголь — 1809, Белинский — 1811, Герцен и Гончаров — 1812, Лермонтов — 1814, Тургенев — 1818, Достоевский, Некрасов — 1821, Щедрин — 1826)…
Откуда это?
Не претендуя на полный ответ, с уважением относясь к выводам историков и литературоведов об особенностях той эпохи, породившей столько гениев, хочу только обратить внимание на одну из причин, которая кажется очень существенной.
Прежде чем появились великие писатели и одновременно с ними должен был появиться читатель.
Мальчики, «которые пустясь в пятнадцать лет на воле…» — они и были теми, кому нужны были настоящие книги. Они, «по детскости своей», еще не кашли ответов на важнейшие вопросы и задавали их; а по взрослости — думали сильно, вопросы задавали настоящие и книжки искали не для отдохновения и щекотания нервов.