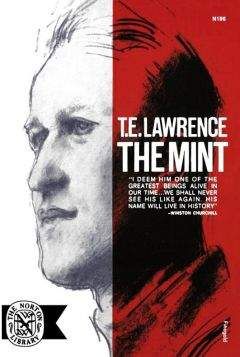23. У повара
Снова не повезло. Меня выбрали работать на кухне, а это, как мы знаем по опыту, вторая по тяжести задача после дерьмовоза. Во всяком случае, не будет гимнастики. Те, кто назначен на кухню, выползают из кровати в комбинезон и идут затемно, прямо с побудки, не умывшись, на работу, до тех пор, пока караульные не отужинают после семи вечера. Это долгие часы и тепловатые помои: гладкий, мерзостный жир: крупные шматы мороженой говядины с трупным запахом, которые надо таскать из грузовика на разделочный стол: обязательно мокрые руки, волосы и одежда, и вонь, которая не отвязывается целыми днями: особенно несчастен здесь тот, кто ненавидит кухни и всю механику приготовления мясной пищи. В пекарне, правда, нет такой мерзости.
Еще одним злосчастьем для меня сегодня стал молодой повар, который на шумной кухне очень похоже подражал тявканью щенка. Он гордился своим мастерством и искал угол, из которого это прозвучало бы громче всего. Там и без того стоял гвалт, как на бойлерном заводе, а его поминутное: «гав, гав, гав — тяф!», казалось, сводило меня с ума, как будто в мозг снова и снова втыкали стальные иглы. Если я могу сказать, что больше всего мне страшна в этом мире жизнерадостность, то ненавижу я больше всего шум, который лязгает вокруг, пока я не начинаю дрожать, как натянутая струна.
Мое тело с тех пор, когда я завербовался, было все время неприятно закостеневшим, и меня преследовали дурацкие несчастные случаи. Две недели назад я сломал мизинец, поскользнувшись на мокром гудроне во время гимнастики, а в прошлую пятницу растянул ногу в подъеме, таща двойной мешок муки по ступенькам в кухню сектора М. От неверного света в казарме сначала болят глаза, а потом голова, пока я набрасываю эти заметки. В целом картина явно незавидная. Я чувствую свою непригодность, не к жизни в авиации, которую я испробовал и нашел хорошей, но к суровости курса новобранцев. А еще мне не удается перенести на бумагу мощь этой жизни, так же явно, как не удается прожить ее. Все это чарующе огромно: но как перевести назад часы моего тела, чтобы найти в себе беззаботность и увидеть ее? Как вертеть словами, когда весь день я провожу в страхе за себя?
Слабость воли и тела, которая позволяла тявкающему повару так раздражать меня, что я содрогался, таким же образом подвергла меня немилости пузатого главного повара, — по виду и манерам сущий навозный жук, только багрового цвета, — который деловито передавал, удерживал и прятал от дежурного офицера то, что собирал из нашей пищи. Мне тошно было от того, что я замешан в преступлениях начальства: и, раз уж я воровал для него, то не скрывал в своем взгляде, что об этом думаю. Трудно было удерживать это только во взгляде. Снова кулаки у меня сжимались. Чтобы стало легче, я с жаром работал, начищая его сволочные котлы и сковородки, пока они не засверкали всей поверхностью: и это был еще один проступок. Он-то хотел, чтобы они всего лишь прошли небрежный ежедневный осмотр. Он знал, что мои старания — упорное свидетельство против него. «Здоров ты на показуху, — процедил он, зная, что такая похвала любому летчику как острый нож, — а теперь иди разложи ножи и вилки». Это была месть: он потратил два часа моего дня на сортировку и раскладывание в бесполезные ряды приборов, которыми предполагалось пользоваться. Но я рад, что довел этого жирного халдея до ответных мер.
Мы подавали обед ординарцам, выстроившимся в очередь. Мой повар-щенок назначил себя раздавать сладкий крем, желтая мягкость которого должна была приглушить кислоту вареных яблок. Он обхватил бедрами теплый котелок с кремом и ерзал вверх-вниз, повторяя «ах, ах, ах» и виляя поясницей, будто бы это была женщина. Время от времени он облизывал край черпака своим неопрятным языком. Видя, что мы не смеемся, он поднял глаза на нас и громко заявил: «Есть три вида дерьма: горчица, — шваркнул по алюминиевому судку на столе, — крем, — уронил густой мазок на Мэддена, который стоял рядом со мной, — и ты, маленькая дрянь».
Когда, совсем поздно вечером, я открыл дверь нашей сияющей казармы, меня встретил такой шум, как будто там кутила компания демонов. Моряк подхватил меня под мышки и, под джаз на тазиках и гребешках, провел меня в танце до дальней двери и обратно. «Завтра инспекция полковника: это значит, по отрядам. Слава богу, ох, слава богу!» За моей спиной появился саркастический Питерс, вернувшийся из Лондона. «Какие-то вы тут все счастливые», — фыркнул он. «Иди ты в болото, — отозвался Гарнер. — Я всегда счастлив, когда отстрелялся и отщелкал пожарный караул». Потом мы рассказали ему правду, но он не поверил. «Да будет вам заливать: мы тут на работах до самого конца».
О чем-то подобном и мы начали уже шептаться, когда неделя за неделей проходила без передышки. Неужели ВВС забыли свое обещание, данное, когда мы записывались, потому что им понадобилась служба поддержки для сборного пункта? После шестой недели в казарме раздались желчные протесты: предложения сделать то или это, чтобы утвердиться. Снова восстание? Не в этой жизни. Я думаю, прошли сотни лет с тех пор, как в Палате Общин возникала проблема, которая не смывалась бы брюзжанием. Но теперь наше желание осуществилось, и перспектива плаца относительно радужна. Мы видели достаточно с нашего расстояния, чтобы страшиться его всей душой. Ни один рекрут не покидал сборный пункт без ненависти к муштре на все оставшиеся семь лет. Но плацу придет конец: работам — никогда. Размещение по отрядам сулит однажды избавление.
В первый раз все мы видим поблизости офицера, кроме тех случаев, когда получаем взыскания. Нет, еще был доктор, который, с бесконечной осторожностью, делал нам прививки в первый вторник. Странно, он, должно быть, сохранял интерес к технической стороне работы, которую делает, наверное, раз сто в неделю. Даже глаза его, казалось, видели каждого из нас в отдельности, когда он нас колол. А в остальном на сборном пункте существует обычай ставить непроницаемую преграду в виде нижних чинов между нами и нашими прирожденными вождями. Это придает лагерю иностранный акцент, вроде прусской армии или Иностранного Легиона: и вселяет в нас еще большее чувство сиротства. Нижние чины делятся по степеням, от великолепно самодовольного первого старшины (высокий, широко шагающий, голос как у вороны, страдающей запором) до завистливой обидчивости капралов. Капралы здесь всех сортов: но какая важность в сержантах! Губы сжаты, походка значительна, римская посадка фуражки (часто одна фуражка и не видно головы), бычий вес и достоинство. Шея сержанта сзади кирпично-красная, толстая и безволосая. У них неспешный взгляд. Их природа давно отвергла все детское.