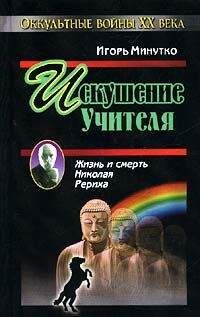Итак, Рерих провозглашает приоритет искусства, культуры, просвещения народа в поступательном движении человечества — «в подготовке высоких путей» — к достойному будущему. И такой приоритет культуры над всем остальным можно только приветствовать.
За год до этого Николай Константинович Рерих сделал первый шаг — тогда скорее всего интуитивный, пробный, не осмысленный всесторонне и глубоко — с перспективой на всю дальнейшую жизнь: в начале Первой мировой войны знаменитый русский художник обратился к верховному командованию русской армии и правительствам Франции и США с предложением обеспечить в военное время сохранность культурного достояния народов воюющих стран путем соответствующей взаимной договоренности, которую можно закрепить в специально разработанном пакте, подписанном всеми заинтересованными сторонами. С проектом этого документа, составленным Николаем Константиновичем после недюжинных усилий и энергичных закулисных действий, были ознакомлены Николай Второй и высокопоставленные военные, стоящие близ царского трона. Никакого отклика не последовало: все заинтересованные стороны продолжали усердно воевать, не только в огромных количествах уничтожая живую силу противника, но и варварски сокрушая культурные и материальные ценности: древние архитектурные ансамбли, церкви, музеи, библиотеки, памятники. И то ли еще будет во Вторую мировую войну.
В начале 1915 года Николай Константинович заболел воспалением легких. Болезнь протекала тяжело, появилась угроза жизни, и настолько реальная, что в «Биржевых ведомостях» стали появляться бюллетени о ходе болезни. Возможно, это обстоятельство спровоцировало повышенный интерес общественности к личности художника: появились рецензии, статьи, оценки творчества и общественной деятельности — оценки порой противоречивые, далеко не всегда лестные. Их можно выстроить в такой — естественно, далеко не полный — ряд:
Рерих — величайший художник России, певец русской мощи и христианской веры, отечественной истории и героизма нашего доблестного воинства во все времена;
Рерих — талантливый, но холодный ремесленник, вписавшийся в тот круг русских художников-реалистов, которые уже испытывают на себе декадентское влияние И создают свой модерн а-ля рюс. Единственное его достоинство — колоритные, яркие, неожиданные краски, но и от них веет арктическими ветрами: в них не бьется любящее и страждущее сердце, а присутствует только голый хладнокровный расчет на эффект неожиданности, новизны; Рерих — друг всего передового в науке и искусстве, открытый, общительный человек, вокруг него постоянно группируется талантливая, любознательная и искренняя молодежь;
Рерих — расчетливый карьерист, льнущий к правительственным кругам, придворный живописец, придуманный своим раболепным окружением «мудрец жизни», художник-аристократ, холодный и прагматичный;
Рерих — загадочная, влекущая к себе натура, искренний и прямодушный человек, одиноко ищущий высшего смысла бытия, и в этом его притягательность;
Рерих — тайный адепт масонских сил, служитель черного воинства, жаждущего сокрушить великую Россию, наверняка тайно связанный с разведками воюющих с нами стран.
Ну и так далее, до бесконечности.
Болезнь отступила. Врачи настаивали, чтобы для окончательного выздоровления Николай Константинович на несколько месяцев отправился в Крым. Рерих предпочел Карелию, в которой бывал неоднократно еще с юношеских лет и любил эту завораживающую северную землю томительной атавистической любовью — его предки по отцовской линии были из Скандинавии.
В декабре 1916 года семейство Рерихов переехало в Карелию, сняв дом на берегу Ладожского озера в городке Сердоболь, намереваясь прожить там зиму, весну и лето следующего года: Николай Константинович почему-то был уверен, что к этому времени война закончится.
Ни глава семейства, ни Елена Ивановна и помыслить не могли, что покинули Россию навсегда…»
Вечером следующего дня — низкое солнце еще висело оранжевым шаром над далеким горизонтом — поезд пришел в Кандалакшу, и когда, прогрохотав буферами, остановился, все семейство Рерихов, столпившееся у окна вагона, увидело на деревянной платформе улыбающегося Вадима Диганова (казалось, что улыбаются даже веснушки на его круглом, приветливом лице) и рядом с ним двух молодых людей, широкоплечих, сосредоточенных, и сразу было видно, что оробевших: такие знаменитые гости пожаловали!
После приветствий, выгрузки вещей, которых, оказывается, набралось изрядно, все расположились в двух извозчичьих пролетках и поехали, весело переговариваясь. Особенно всем происходящим были довольны мальчики — старший, шестнадцатилетний Юрий и Святослав, ему недавно исполнилось четырнадцать лет; смотрели по сторонам на город, которому больше подошло бы определение большое село: одноэтажные дома за высокими заборами, с завалинками, широкие прямые улицы с тротуарами из досок; часто в перспективе улиц или между домами появлялась широкая водная гладь, розово окрашенная вечерней зарей.
— Славик! Гляди — море! — толкал брата Юрий.
— Может, это не море, а озеро, — Святослав любил спорить, возражать, не соглашаться.
— Точно, море, — подтвердил Вадим Диганов. — Кандалакшский залив Белого моря.
— Порыбачить бы! — мечтательно сказал Юрий, рыболов и охотник, — в отца.
— Мы на Ловозере порыбачим, — Вадим почему-то понизил голос, и все замолчали.
Родители ехали во второй пролетке, и видно было, что младший, Святослав, хотел бы сейчас оказаться с ними: он ерзал и все оглядывался.
— Уже, считайте, приехали, — успокоил мальчика Вадим. — Сейчас вон за тот угол повернем…
Большой дом Дигановых стоял неподалеку от деревянной резной церкви, очень нарядной, похожей на сказочный теремок. И был он кирпичный и двухэтажный — один такой красавец среди серых северных изб, срубленных давно, битых злыми ветрами, стеганных холодными дождями, — одна присела набок, у другой все перекосилось в разные стороны, крыльцо, дверной проем и сени, боковина крыши, третья почти под самые оконца ушла в землю, и все эти избы были похожи на испуганных овец, которых пасет строго богатый пастух в красной нарядной рубахе — дом лесопромышленника Диганова Ивана Спиридоновича.
Сам хозяин стоял на высоком крыльце, коренастый, тоже рыжий, в окладистой бороде, с зорким внимательным взглядом из-под густых темно-рыжих бровей.
— Наконец-то! — голос у Ивана Спиридоновича был густой, приветливо-снисходительный. — Заждались! Милости просим! Хозяйка моя извелась, кушанья на столе стынут.
Перезнакомились, начали сгружать поклажу, друзья Вадима — одного звали Ильей, другого Владимиром, — справившись с вещами, откланялись: завтра в дорогу рано утром, надо кое-что еще сделать, лошадей обиходить; оказались оба молодых человека молчаливыми и стеснительными. «Славные», — отозвалась о них Елена Ивановна, когда они ушли.