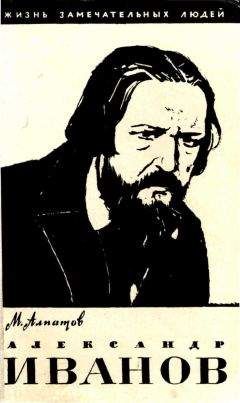Вот и первый снег побелил маленький голый комендантский дворик, осел на форточке и усилил грусть.
Но скоро из того, не крепостного, мира пришли первые вести в виде папирос, рябчиков, отличной икры, солений.
Михайлов радовался, как ребенок. Он не был таким уж гурманом, чтобы не есть тюремной похлебки, но рябчики, несомненно, вкуснее, да дело и не в них — его не забыли, чьи-то заботливые руки упаковывали для него эти банки с икрой, чьи-то любящие души напоминали о жизни, о том, что она впереди и не огорожена стенами.
Да и тюремщики оказались разными, не то что в императорской канцелярии. Комендант — формалист, сух, педантичен. Плац-майор Кандауров любезен, разговорчив, душевен. Он уверен, что Михайлова скоро выпустят.
Какое счастье, что с ним его книги и есть возможность получать свежие журналы!
Даже «Современник» добирается сюда. Вот сентябрьский номер, октябрьская книга. Он узнает статьи Чернышевского. Значит, Николай Гаврилович вернулся из Саратова и на свободе, его не коснулась грязная лапа Костомарова.
Но почему в последних номерах нет статей Добролюбова? Он был плох, когда Михайлов видел его в последний раз.
Он умирает, и этого ничем не предотвратить.
От таких мыслей опять становилось тяжело.
Но были, были в этом заточении и радостные минуты, даже дни.
Ему удалось сблизиться с плац-адъютантом Пинкорнелли, и добрейший штабс-капитан наладил доставку писем на волю и с воли.
Теперь у него много работы.
Михайлов лихорадочно пишет и пишет письма, и прежде всего Шелгуновой.
В эти же дни его начали возить в первое отделение пятого департамента сената на допросы.
У Михаила Илларионовича было время рассмотреть своих судей, пока ему делали «духовное увещание» и поп нес какую-то дичь из евангелия.
Сенаторы напоминали «позолоченных бурханов».
Из-за длинного стола на Михайлова смотрели хитрые, злобные, равнодушные и просто пустые лица.
Бесконечные вопросы. Вновь нужно было не только отвечать, но и собственноручно записывать эти ответы, и все это при полном молчании или злобном сопении судей.
Но у ворот Галерной, на лестницах сената, во дворе Михайлов отдыхал душой. Он понимал, что толпы молодежи, и не только молодежи, собрались здесь ради него.
Приветственные улыбки, слова одобрения, возгласы восхищения заливали грудь теплым чувством гордости за этих людей, позволяли переносить пытку допросов, ненависть судей, одиночку крепости.
Даже сенатские чиновники проявляли необычайное любопытство к человеку, давшему первым свое имя политическому процессу в эти годы «либеральничанья» правительства. Они выскакивали из своих кабинетов, собирались сотнями в коридорах и молча тянулись на носках, чтобы разглядеть поэта.
Это был какой-то почетный эскорт.
Михайлов только усмехался, проходя сквозь строй.
* * *
17 ноября умер Добролюбов. Михайлов узнал об этом из письма Шелгуновой. Ушел из жизни друг, большой, чуткий, верный.
Мучительно переживал Михайлов эту кончину. Она заслонила его собственные горечи и тревоги.
20 ноября Литейный забит народом. Молодежь хоронит своего кумира. Без цветов, без венков. Простой дубовый гроб зловеще напоминает о неумолимой смерти в этот хмурый ноябрьский день.
На Волковом кладбище надгробные речи звучат, как на митинге. Чернышевский напоминает собравшимся, чем для всех передовых людей России был Добролюбов, напоминает о подлинной причине смерти великого критика. Он говорит:
— Но главная причина его ранней кончины состоит в том, что его лучший друг — вы знаете, господа, кто— находится в заточении.
Да, господа знали этого «лучшего друга», знали они уже и о том, что сенат приговорил его к каторге, хотя приговор еще не объявлен публично.
И тут же, на кладбище, у могилы усопшего борца, собирают деньги для другого воина революции, которому предстоит медленно умирать в страшных каторжных рудниках.
20 ноября внезапно Михайлова перевели из Невской куртины на главную крепостную гауптвахту. Оказалось, что испугались возможности общения со студентами.
Хотя в этот день ему было все равно.
Он мысленно был там, на Литейном, в доме Юргенева, откуда уходил в свой последний путь Добролюбов. Он шел за его гробом на кладбище, и он тоже сказал свое последнее прости. Оно вылилось в стихах:
Вечный враг всего живого,
Тупоумен, дик и зол,
Нашу жизнь за мысль и слово
Топчет произвол.
И чем жизнь честней и чище,
Тем нещаднее судьба!
Раздвигайся ты, кладбище!
Принимай гроба!
Гроб вчера, и гроб сегодня,
Завтра гроб… А мы стоим
Средь могил и — «власть господня»,
Как рабы, твердим.
Вот и твой смолк голос честный,
И смежился честный взгляд,
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат.
Жаждой правды изнывая,
В «темном царстве» лжи и зла
Жизнь зачахла молодая,
Гнета не снесла.
Ты умолк; но нам из гроба
Скорбный лик твой говорит:
«Что ж молчит в вас, братья, злоба?
Что ж любовь молчит?
Иль в любви одни лишь слезы
Есть у вас для кровных бед?
Или сил и для угрозы
В вашей злобе нет?
Братья, пусть любовь вас тесно
Сдвинет в дружный ратный строй,
Пусть ведет вас злоба в честный
И открытый бой!»
Мы стоим, не слыша зова…
И, как прежде, дик и зол —
Тризну мысли, тризну слова
Правит произвол.
И, обращаясь к друзьям, приписал:
«Стихи эти невольно сложились у меня в голове вечером в день похорон бедного Бова[8], и я записал их, чтобы откликнуться из своей клетки на общее наше горе. Сообщите их друзьям покойника. Они не станут искать в них эстетических красот, как не искал бы он сам, но, верно, найдут чувство, похожее на свое. Бедный, бедный Бов; мне так и представляется его доброе прекрасное лицо со слезами на щеках. Да, умирать в такие годы горько».
* * *
Он не знал, через кого к нему в камеру попали стихи.
Это не было послание с воли. Студенты, сидевшие тут же, в Петропавловской крепости, прослышав о заключении в нее Михайлова, приветствовали своего учителя и друга:
УЗНИКУ
Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братский шлем тебе привет.
Пусть облегчит в час злобной доли
Тебя он, наш родной поэт!
Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять
И дань любви и дань участья
Тебе, учитель наш, воздать!
Но день придет, и на свободе
Мы про тебя расскажем все,
Расскажем в русском мы народе,
Как ты страдал из-за него.
Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам.
Верь — плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам.
И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет на снежной степи
Сынов народа и тебя.
Михайлов долго смотрит в форточку, хотя знает, что на комендантском дворе сейчас никто не гуляет. Он должен ответить, но прежде необходимо хоть немного успокоиться. Мало того, что студенты вспомнили о нем, прислали стихотворный привет, называют его своим «учителем», «родным поэтом», они уверены в том, что его скромные труды на поприще революционной борьбы дадут свои плоды и молодое поколение «отмстит сторицею врагам».