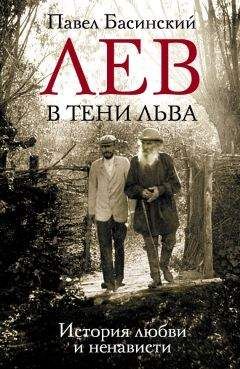Отец строго посмотрел на него. «Вы повоюете, а я уже нет», — сказал он.
В этот вечер Сергей продиктовал телеграмму братьям, приблизительно следующего содержания: «Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мама будет для него губительно».
Отец был далек от мысли, что весть о его болезни облетела не только всю Россию, но и весь мир, и что вся семья в Астапове. Целая армия фотографов жила на ст. Астапово, ловя каждое слово, вылетавшее из домика начальника станции. Врачи ежедневно выпускали короткие бюллетени о ходе болезни. Телеграф работал безостановочно. Станция Астапово, затерянная в глуши Рязанской губернии, превратилась в центр, на котором сосредоточилось внимание всего цивилизованного мира.
Но тогда это все проходило мимо нас, людей, которые день и ночь следили за биением сердца, дыханием, температурой, за каждым словом отца.
«Ночь была тяжелая, — в последний раз записывал отец в дневнике, — лежал в жару два дня. 2‑го приехал Чертков… 3‑го Таня. В ночь приехал Сережа, очень тронул меня. Нынче, 3‑го, Никитин, потом Гольденвейзер и Иван Иванович. Вот и план мой… Fais се que doit advienne que pourra[138].
И все на благо и другим, а главное, мне».
Отчаяние сменялось надеждой. Мы радовались низкой температуре, приходили в отчаяние, когда она повышалась. С одного легкого воспаление перекинулось на другое. Сердце работало плохо, и низкая температура только указывала на слабую сопротивляемость организма, дыхание учащалось, пульс неровный, с перебоями.
Выписали кислород, Сергей послал телеграмму в Москву, чтобы выслали удобную кровать, было установлено постоянное дежурство одного из нас и врача у постели больного.
«А мужики–то, мужики как умирают», — со вздохом сказал отец, когда ему поправляли подушки.
4 ноября отец был почти без сознания. Он то бредил, пытаясь что–то объяснить нам, то лежал тихо, без движения. Строгие, точно внутрь глядящие глаза его, казались мне ушедшими, точно видели что–то недоступное нам, недосягаемое… исхудавшие руки, пальцы, не переставая шевелились, перебирая простыню с одного края до другого…
«Конец», — думала я.
В бреду, когда трудно было понять, что он хотел сказать:
«Искать, все время искать», — вдруг твердо проговорил он.
В этот вечер, когда в комнату вошла Варя, отец вдруг приподнялся на подушке, протянул руки и громким, радостным голосом крикнул:
— Маша! Маша!
Из Москвы приехали врачи: Беркенгейм, Усов, знаменитый Щуровский. Но надежда угасала.
6 ноября отец был особенно ласков со всеми. Когда Душан что–то для него сделал: «Милый Душан, милый Душан!» — сказал он.
Мы меняли простыни, я поддерживала его за спину и вдруг я почувствовала, что рука его ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мою руку один раз, потом другой. Я припала к ней губами, стараясь сдержать подступившие рыдания.
В этот же день мы с Таней сидели около него. Кровать стояла посредине. Вдруг отец сильным движением привстал и сел на кровати. Я подошла.
— Поправить подушки?
— Нет, — сказал он, твердо и ясно выговаривая слова. — Нет, только одно советую вам помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.
Это были последние его слова, обращенные к Тане и ко мне.
К вечеру стало много хуже. Дали кислород, впрыснули камфору. Отец успокоился, позвал Сергея: «Сережа! Истина… Я люблю много… Как они…» Он тихо задремал, дыхание стало ровнее… Казалось, непосредственная опасность миновала. Все разошлись спать, кроме дежурных. Около полуночи стало плохо. Всех разбудили.
Отец тихо, спокойно умирал…
Позвали С: А., всех братьев…
В то же утро я уехала в Ясную Поляну.
Я сидела одна в его кабинете… Казалось, жизнь моя кончена. Не для чего, не для кого жить… Пустота, отчаяние… Тихо, неслышными шагами вошла старушка Шмидт. «Не плачь, — сказала она мне. — Не надо… Почитаем Круг Чтения на 7 ноября, день его смерти».
Старушка Шмидт взяла книгу с его стола, нашла число и стала читать: «Жизнь сон — смерть — пробуждение».
9 ноября. Рано утром прибьш траурный поезд на станцию Засеку. Поезда из Москвы были переполнены. Собралась громадная толпа, тысячи, может быть, десятки тысяч. Процессия растянулась на версты. Гроб несли сыновья и Яснополянские крестьяне. Впереди процессии плакат: «Лев Николаевич, память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». Гулко разносилось в тишине раннего морозного утра несмолкавшее пенье тысячами голосов «Вечной памяти».
Гроб поставили в библиотеку — первый кабинет отца. Люди проходили бесконечной вереницей в дверь из передней и выходили на каменный балкон, чтобы в последний раз поклониться Толстому.
В Заказе, между дубами у оврага — место Зеленой Палочки — вырыта могила. Ее вырыл бывший ученик отца Михайло Зорин.
В лесу, в отдалении — конные жандармы.
Медленно опускали гроб — толпа, на коленях, пела «Вечную память».
Резким диссонансом прозвучал чей–то сердитый голос; «Полиция на колени!»
Жандармы покорно исполнили приказание.
Засыпали могилу… «Вечная память», речи… Мы вернулись домой, Толпа людей… зияющая пустота…
«На свете много людей»… эти слова не доходили тогда до моего сознания. Но жить надо было.
1911–1913 годы. — Выполнение завещания отца: издание его неизданных сочинений, покупка земли у братьев и наделение ею крестьян, передача прав на сочинения отца в общее пользование.
1914 год. — Я уезжала на Турецкий фронт сестрой милосердия и приехала в Ясную проститься с матерью.
Горе состарило ее. Она мало говорила, все больше дремала, сидя в вольтеровском кресле, где так любил сидеть отец. Казалось, ничего не интересовало ее. Голова ее тряслась больше прежнего, она как–то вся согнулась, сделалась меньше, большие черные, прежде такие блестящие, живые глаза ее потухли, она уже плохо видела.
«Зачем на войну едешь, — сказала она. — Отец не одобрил бы».
1917 год. — В Ясной Поляне мать, Таня — муж ее скончался — с Таничкой.
Кругом громили, жгли помещиков. Зловещие слухи ползли, наводя ужас на обитателей Ясной Поляны. Говорили, что мужики из соседних деревень иду'1* громить Ясную Поляну. Слухи оказались действительностью. Толпы шли ближе, ближе. Запрягали лошадей, мать, Таня с дочкой сидели на уложенных сундуках, собираясь бежать…
Но вдруг разнеслась весть — яснополянские крестьяне встретили бунтовщиков с топорами, рогачами, вилами, и погнали их обратно. Яснополянская усадьба сохранилась — одна из немногих в округе.
1918 год. — Я приехала в Ясную Поляну. Голод. Всё тот же Илья Васильевич в белых, хотя и заплатанных перчатках, беззвучно подает обед, стол накрыт белоснежной скатертью, серебро, но на блюде… вареная кормовая свекла, масла нет, кусочки, очень маленькие, черного хлеба с мякиной.