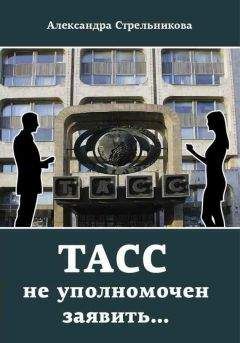И в наши дни маленькие спортивные самолеты, в отличие от больших воздушных кораблей, которые могут лететь вслепую, по приборам, не летают в плохую погоду. На У–2, в котором приборов практически не было, погибнуть в плохую погоду было легче легкого. Если внезапная непогода застала тебя в воздухе, нужно было немедленно поворачивать на 180 градусов и лететь к своему аэродрому, контролируя по приборам высоту, скорость, направление, и, вычислив (это было одной из задач штурмана), через какое время под тобой окажется аэродром (в случае, если курс верный), снизиться, и сделать круг над предполагаемым расположением аэродрома, и попытаться что-то разглядеть внизу. Не получится — продолжать делать круги, изменяя их радиус, и искать аэродром. Если ничего не увидишь, а бензина осталось совсем мало (количество оставшегося бензина примерно определяли по времени, проведенному в воздухе), нужно садиться, но садиться неизвестно куда, в темноте и при плохой погоде страшно опасно. Снижаясь и стараясь что-то увидеть на земле, ты можешь врезаться в высокий берег реки или оврага, в деревья. Если даже ты посадил самолет на землю, он может попасть колесами в яму и скапотировать — перевернуться носом вниз. Попав на У–2 в непогоду ночью, спастись мог только счастливчик.
В ту ночь сильный снегопад скрыл землю и небо, все замелькало перед глазами, закружилось в снежном вихре. «Мигающие сквозь плотную пелену снега огоньки на земле стали казаться далекими звездами, а настоящие звезды превратились в огоньки на дороге». Не вернулись три экипажа, и о том, что с ними случилось, можно было только догадываться. Перед рассветом раздался страшный звонок: «Произошла катастрофа. Подготовьте комнату, где можно будет положить тела погибших». Погибших было четверо: Лиля Тормосина со штурманом Надей Комогорцевой и Аня Малахова с Мариной Виноградовой. Чудом уцелел еще один экипаж: самолет врезался в землю, но они выбрались из-под обломков почти невредимыми. Всего несколько часов назад Лиля, собираясь в полет, шутила с Надей Комогорцевой: «Штурман, даю тебе конфету, только попади, пожалуйста, сегодня на полигоне хоть в один фонарь! А если погасишь все три, то дам еще две конфеты».[129]
О том, что пропавшие экипажи уже никогда не вернутся, одной из первых и из неожиданного источника узнала штурман из полка «ночников» Дуся Пасько. В большой деревенской семье, в которой она выросла, было три сестры и шесть братьев. Братья все были на фронте, и из редких писем из дома сложно было понять, где они находятся. Какая же была неожиданность, когда, придя по вызову на проходную авиагарнизона утром 10 марта, Дуся увидела, что там ее ждет брат Степан! Она даже закрыла глаза, подумав, что «это ей привиделось»,[130] а когда открыла, Степа уже стоял с ней рядом. Оказалось, окончив военное училище в Алма-Ате, он был назначен командиром пулеметной роты и ехал со своими солдатами на фронт. Дуся даже не успела выяснить, куда он едет, потому что Степа, как старший, больше расспрашивал сам. Ему хотелось знать все о жизни и работе сестры. «Ну как, у вас опасная, трудная работа — летать-то?» — все спрашивал Степа. Не понимая, почему он так беспокоится, Дуся уверяла его, что «все нормально, ничего страшного нет». Наконец, усмехнувшись, Степа сказал ей, что сегодня на рассвете он провел митинг. Оказалось, что темой этого митинга была гибель девушек из полка его сестры: они разбились рядом с дорогой, по которой следовала на фронт Степина часть, и он был на месте происшествия. После этого Дусе бесполезно было рассказывать брату о том, какая спокойная у нее будет жизнь на фронте. Судьба распорядилась по-своему: Дуся вернулась с войны без единой царапины, а Степу, погибшего на Украине, она больше никогда не видела.
Гале Докутович раньше случалось думать о том, что она может погибнуть на войне, и смерть ее нисколько не пугала. Ей представлялось, что она обязательно погибнет как-то красиво и героически, разбившись на самолете. Став «на целую жизнь старше» после первых похорон товарищей, она в душе смеялась и над этими мыслями, такими детскими, и над подругами, которые еще увлекались фантазиями о красивой и героической гибели.
В ночь с 8 на 9 марта гибель в ночном вылете перестала быть абстрактной, став реальностью. Четыре открытых гроба поставили рядом в актовом зале, где девушки так любили танцевать. Тела летчиц и штурманов, с разбитыми лицами, сломанными ногами и изуродованными спинами, были все же узнаваемы. Многим запомнилось, что лицо Лили Тормосиной и мертвое осталось красивым, только не было на нем прежнего румянца.
Было «мучительно тяжело за такую бессмысленную смерть».[131] Все плакали. Нина Ивакина записала в дневнике, как «бережно поставив гробики с недавно такими веселыми и улыбающимися подругами на машину, под звуки траурного марша медленно провожали родных соколят в последний путь на кладбище».
Все, что касалось похорон, Раскова делала сама. «Аккуратно клала в гробы цветы, закрывала их крышками, первая бросила в могилы прощальную горсть земли» и сказала на митинге, который провели на кладбище, теплые прощальные слова: «Спите, дорогие подруги, спокойно. Вашу мечту мы выполним».[132] Раскова, женщина с многочисленными талантами, и говорить умела так, что каждое ее слово трогало слушателей до глубины души.
«У летчиков подавленное настроение», — писала несколько дней спустя Ивакина. «Очень тяжело переживают гибель девчат с У–2… Полк У–2 на фронт не улетает, отправка в связи с катастрофами отменяется». Начальство, видимо, решило, что полк ночных бомбардировщиков морально не готов для фронта или что им нужно еще поучиться. Отправку на фронт отменили, перенеся на неопределенное время.
Галя Докутович считала, что их задержали правильно. 13 марта, все еще с трудом веря, что ее «хороших и честных» подруг, «четырех молодых жизней», больше нет на свете, она писала в дневнике, что причина их гибели — в чрезмерной самоуверенности, в том, что все возомнили себя уже прекрасными летчиками, а на самом деле это еще совсем не так. По ее мнению, после катастрофы среди ее товарищей зародилась как раз ужасная неуверенность в своих навыках и способности сориентироваться в критической ситуации. Что сделать, чтобы вернуть товарищам уверенность в себе? Галя считала, что стоит выпустить ее с летчицей в такую же темную ночь с плохой видимостью, чтобы они пролетели по маршруту и сбросили бомбы и чтобы это видели все те летчики и штурманы, у которых еще остается хотя бы маленький червячок сомнения.
Глава 8
Вот замечательно! Вот где скорость!
«Вот замечательно! Вот где скорость!» — писала своей маме Лиля.[133] Истребители освоили машины и получили разрешение летать самостоятельно, тренируясь в «зоне» — воздушном пространстве установленного размера, в котором пилоты обычно ожидают своей очереди захода на посадку или подхода в район аэродрома. Лиля хвастала, что летала на высоте пять тысяч метров «без кислорода» — опасный эксперимент, который она, скорее всего, делала без разрешения. Это было в ее характере (на большой высоте воздух такой разреженный, что при отсутствии дополнительного источника кислорода летчику трудно вести себя адекватно). С восторгом писала она о том, что «впервые почувствовала машину без шасси». Как всегда не щадя маму, писала, что несколько раз сорвалась в штопор, но в конце концов «виражить научилась». Тренировки теперь были серьезные: не только стрельба, но и высший пилотаж, и, конечно, тренировочные воздушные бои.
С топливом в этот момент проблем не было, и истребители тренировались с утра до вечера, чувствуя себя все увереннее в скоростных самолетах. «А как летают наши девушки! — писала в это время Нина Ивакина. — Даже мужчины, те, которые когда-то поговаривали: «Наломаете дров», и то теперь смотрят на наших пилотов с молчаливым восхищением».
Теперь на Дом Красной армии совершенно не осталось времени. «Знакомых летчиков» девушки встречали только в столовой. И все же, как признавалась в письме Лиля, «откровенно говоря, когда идем туда, то девки пудрятся по полчаса».[134]
Пудрились, правда, только некоторые, ведь большинство из этих девушек вообще не пользовались косметикой. В магазинах больших городов, конечно, продавали и пудру, и помаду, и тени, но стоили они дорого, так что мало кто покупал. А женщинам в маленьких городках и в деревне и купить-то все это было негде. Нехитрую косметику делали сами: могли, собираясь на танцы, навести себе брови жженой пробкой, могли сделать сами помаду, настрогав грифель красного карандаша и смешав с чем-нибудь жирным. До войны в СССР было два главных вида духов: женские «Красная Москва» и мужские «Шипр». Их делали на той же, что и до революции, фабрике — «Брокар», переименовав ее сначала в Замоскворецкий мыловаренный комбинат № 5, потом — в фабрику «Новая Заря». Духи «Красная Москва» изначально назывались «Букет Императрикс» (парфюмер Брокар создал их в качестве подарка на день рождения императрице Марии Федоровне), а загадочное «Шипр» — на самом деле всего лишь французское название Кипра — так и оставили.