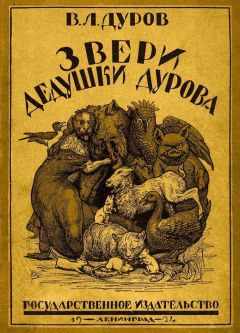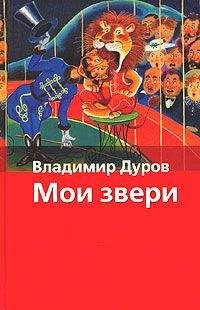Лошади наши стояли все вместе в большой эскадронной конюшне, и мы так же, как в лагере, водили их на водопой целым эскадроном. Дурная погода, не позволявшая делать ни ученья, ни проездки, была причиною, что лошади наши застоялись, и не было возможности сладить с ними при возвращении с водопоя. В день, злосчастнейший в жизни моей, вздумала я, к вечному раскаянию моему, взять Алкида в повод; прежде я всегда садилась на него, а в повод брала других лошадей; теперь, на беду свою, сделала напротив!
Когда ехали к реке, Алкид прыгал легонько, не натягивая повода, и то терся мордою об колено мое, то, играя, брал губами за эполет; но на обратном пути, когда все лошади зачали прыгать, скакать на дыбы, храпеть, брыкать, а некоторые, вырвавшись, стали играть и визжать, то мой несчастный Алкид, увлекшись примером, взвился на дыбы, прыгнул в сторону, вырвал повод из рук моих и, несомый злым роком своим, полетел, как стрела, перепрыгивая на скаку низкие плетни и изгороди.
О, горе, горе мне, злополучной свидетельнице ужаснейшего моего несчастия! Следуя глазами за быстрым скоком моего Алкида, вижу его прыгающего… и смертный холод пробегает по телу моему… Алкид прыгает через плетень, в котором заостренные колья на аршин выставились вверх. Сильный конь мог подняться в высоту, но, увы, не мог перенестись! Тяжесть тела опустила его прямо на плетень. Один из кольев вонзился ему во внутренность и переломился! С криком отчаяния пустилась я скакать вслед за моим несчастным другом; я нашла его в стойле; он трепетал всем телом, и пот ручьями лился с него. Пагубный обломок оставался во внутренности и еще на четверть был виден снаружи. Смерть была неизбежна!
Прибежав к нему, я обняла его шею и обливала слезами. Добрый конь положил голову на плечо мое, тяжело вздыхал и наконец минут через пять упал и судорожно протянулся!.. Алкид! Алкид!.. Для чего я не умерла тут же… Дежурный офицер, увидя, что я обнимаю и покрываю поцелуями и слезами бездыханный труп моей лошади, сказал, что я глупо ребячусь, и приказал вытащить ее в поле; я побежала к ротмистру просить, чтоб приказал оставить в покое тело моего Алкида и позволил мне самой похоронить его. «Как?! Бедный Алкид твой умер? – спросил ротмистр с участием, видя заплаканные глаза мои и бледное лицо. – Жаль! Жаль!.. Ты так любил его! Ну что ж делать, не плачь! Я велю дать тебе любую лошадь из эскадрона. Ступай, похорони своего товарища».
Он послал со мною своего вестового, и дежурный офицер не мешал уже мне заняться печальною работою хоронить моего Алкида. Товарищи мои, тронутые чрезмерностью моей горести, вырыли глубокую яму, опустили в нее Алкида, засыпали его землею и, нарезав саблями дерну, обложили им высокий курган, под которым спит сном беспробудным единственное существо, меня любившее.
Товарищи мои, кончив свою работу, пошли в эскадрон, а я осталась и до глубокой ночи плакала на могиле моего Алкида. Человеколюбивый ротмистр приказал, чтоб дня два не мешали мне грустить и не употребляли никуда по службе. Почти все это время я не оставляла могилы коня моего! Несмотря на холодный ветер и на дождь, я оставалась на ней до полночи; возвратясь на квартиру, ничего не ела и плакала до утра.
На третий день взводный начальник мой, призвав меня, сказал, чтобы я выбрала себе лошадь, что ротмистр приказал дать мне любую. «Благодарю за милость, – отвечала я, – но теперь все лошади равны для меня; я возьму, какую вам угодно будет дать мне».
Когда я приходила убирать моего Алкида, то делала это охотно; но теперь такое занятие кажется мне очень неприятным. С глубоким вздохом отвела я свою новую лошадь в то стойло, где умер мой Алкид, и накрыла ее тою попоною, которою три дня тому назад покрывала его. Я уже не плачу, но безрадостно брожу по пожелтевшим полям. Смотрю, как холодный осенний дождь брызжет на могилу Алкида моего и мочит дерн, по которому он так весело прыгал.
Всякое утро первые шаги мои к могиле Алкида. Я ложусь на нее, прижимаюсь лицом к холодной земле, и горячие слезы мои уходят в нее вместе с дождевыми каплями. Переносясь мысленно к детским летам моим, я вспоминаю, сколько радостных часов доставляли мне редкая привязанность и послушание этой прекрасной лошади!
Вспоминаю те превосходные летние ночи, когда я, ведя за собой Алкида, всходила на Старцову гору по такой тропинке, по которой взбирались туда одни только козы; мне ничего не стоило идти по ней, маленькие ступни мои так же удобно устанавливались на ней, как и козлиные копытца; но добрый конь рисковал оборваться и разбиться в прах; несмотря на это, он шел за мною послушно, хотя и дрожал от страха, видя себя на ужасной высоте и над пропастью!
Увы, мой Алкид! Сколько бед, сколько опасностей пронеслось мимо, не сделав тебе никакого вреда! Но мое безрассудство, мое гибельное безрассудство положило наконец тебя в могилу! Мысль эта терзает, раздирает душу мою!.. Ничто уже не радует меня; самая тень усмешки исчезла с лица моего. Все, что ни делаю, делаю машинально, по навыку. С мертвым равнодушием еду на ученье, молчаливо возвращаюсь, когда оно кончится, расседлываю лошадь и ставлю на место, не глядя на нее, и ухожу, не говоря ни с кем ни слова.
За мною приехал унтер-офицер от шефа; меня требуют в штаб. Зачем же это? Однако ж мне ведено отдать свою лошадь, седло, пику, саблю и пистолеты в эскадрон, итак, видно, я сюда не возвращусь! Пойду проститься с Алкидом! Я так же неутешно плакала на могиле моего Алкида, как и в день смерти его, и, сказав ему вечное прости, на прощание поцеловала землю, его покрывающую.
Полоцк. Какой-то важный переворот готовится в жизни моей! Каховский спрашивал меня: «Согласны ли были мои родители, чтобы я служил в военной службе? И не против ли их воли это сделалось?» Я тотчас сказала правду, что отец и мать моя никогда б не отдали меня в военную службу; но что, имея непреодолимую наклонность к оружию, я тихонько ушла от них с казачьим полком. Хотя мне только семнадцать лет, однако ж я имею уже столько опытности, чтобы угадать тотчас, что Каховский знает обо мне более, нежели показывает, потому что, выслушав мой ответ, он не оказал и виду удивления к странному образу мыслей моих родителей, не хотевших отдать сына в военную службу, тогда как все дворянство предпочтительно избирает для детей своих военное звание. Он сказал только, что мне должно ехать в Витебск к Буксгевдену с господином Нейдгардтом, его адъютантом. Нейдгардт был тут же.
Когда Каховский отдал мне это приказание, то Нейдгардт тотчас раскланялся и пошел со мною к себе в дом. Он оставил меня в зале, а сам ушел к своему семейству во внутренние комнаты. Через четверть часа то одна, то другая голова начали выглядывать на меня из недотворенных дверей; Нейдгардт не выходил; он там обедал, пил кофе и сидел долго, а я все время была одна в зале. Какие странные люди! для чего они не пригласили меня обедать с ними?