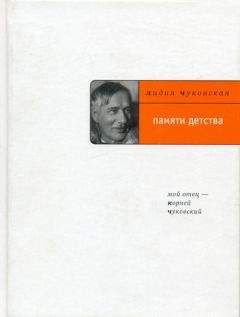Исключением служит, пожалуй, один Маяковский. Он один памятен мне в главной, а не в побочной своей ипостаси: поэт. Быть может, это потому, что Корней Иванович более всего подготовил нас именно к восприятию стихов. Быть может, потому, что побочного, вторичного, в Маяковском почти ничего и не было.
Помнится мне, он всегда приходил к нам со стороны моря, а на берегу шагал, вслух сочиняя стихи, по той же гряде камней, по какой имел обыкновение прыгать Коля.
В 1915 году Маяковский нарисовал меня: было мне тогда восемь лет; он чувствовал, вероятно, с какой жадностью я его слушаю.
Да, я любила его вызывающе презрительное и всегда громоподобное чтение, – читал ли он многим или Корнею Ивановичу один на один (мы с Колей не в счет).
Каким он мне представлялся тогда, каким я его видела и помню?
Вот тут, чтобы как можно точнее воспроизвести собственное и тогдашнее видение, я вынуждена прибегнуть к чужим строкам, и притом относящимся отнюдь не к Маяковскому. Строки эти написаны Блоком, прочтены мною значительно позднее, никакого отношения к Маяковскому не имели и иметь не могли – строки из блоковских любовных стихов! – но стоит мне прочитать или припомнить их, как я сразу вижу Маяковского, тогдашнего, куоккальского, на зеленом куоккальском диване или на камне у моря, опустившим тяжелый взгляд накануне первого звука.
Вот они, блоковские строчки:
Так на людей из-за ограды
Угрюмо взглядывают львы.
Когда Маяковский читал, взгляд его тяжелых глаз был всегда если не угрожающий, то угрюмый. И всегда из-за незримой ограды. Кругом были люди; он – какая-то иная порода.
А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.
Я испытывала зависть к нему, столь высокомерно судившему судей, и неловкость за себя, будто и я была среди тех, кого он осудил.
А потом эти мои любимые строки:
И вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!
Слова «вылинял моментально» он произносил моментально, а «великолепный» – медленно и важно разворачивая все веерообразное великолепие павлиньего хвоста.
Но мне было восемь лет, и, признаюсь, я и в Маяковском интересовалась не только стихами. Не в меньшей степени, чем слушать его стихи, любила я смотреть, как он играет в крокет. Я увязывалась за ним каждый раз, когда он отправлялся на крокетную площадку к нашим близким друзьям и ближайшим соседям, Богдановичам – Татьяне Александровне, моей крестной, и ее детям: Шуре, Соне, Володе, Тане. Тут никакой львиности, никакой угрюмости, никакой ограды – просто молодой человек играет с девочками-подростками в крокет, но и здесь тот же азарт и та же грозная непобедимость. Все держат молоток двумя руками и наклонясь, а он, хотя и выше всех, шару не кланяется и молоток в одной. Держит его словно тросточку, бьет наверняка, всегда первым выходит в разбойники и уж если разбойничает – любо-дорого смотреть: шары так и летят, так и щелкают! Власть его над молотком и шарами казалась мне волшебной. Меня, разумеется, в игру не брали: я была счастлива, если мне удавалось подать Маяковскому вылетевший за границу площадки шар. Находилась я на таком уровне сознания, что слова Татьяны Александровны, обращенные однажды к Соне: «Ты бы лучше, Сонюша, с Владимиром Владимировичем не играла сегодня, ты сегодня не в ударе», понимала буквально: «Соня сегодня слабенькая, не в силах ударить по шару – не в ударе».
Репин. Мастерская. Помню холсты на мольбертах, много Пушкиных, Шаляпина, помню каких-то черных загорелых людей, размашисто гребущих в широкой лодке среди волн. Помню Репина за письменным столом у Корнея Ивановича, изображающим кого-то в «Чукоккале» папиросным окурком, который он макает в чернильницу. Но мне семь лет, и гораздо более, чем о портретах, картинах, кистях, холстах и таком странном орудии, как окурок, я думаю о том: правда ли рассказывают, будто репинский Мик кинулся недавно во дворе у соседей на живую курицу? и съел ее? Собаки не могут без мяса, а жена Репина, Наталья Борисовна, ни мяса не ест, ни молока не пьет и никому не позволяет – не только гостям, но и Репину самому, а Мика перевела на одни каши… вот с горя он и бросился на курицу. Интересно, съел ли он ее и как? Разорвал в клочки или проглотил живьем? Это ужасно занимает меня и Бобу. И в мастерской у Репина нас не более занимают картины, чем жгучий вопрос: если тут играть в прятки – не будут ли видны ноги из-за пышных занавесей, опущенных над холстами? И еще: позволит ли мне кучер снова заплетать в косички гриву репинской лошади Любы, чтобы волосы не падали ей на глаза? И самое главное: правду ли Репин сказал мне, что к нему в парк каждый день приходит белка? Спросить не решаюсь, а мне смерть как хочется знать.
А дело было так: однажды летом Репин начал писать мой портрет. Шла я утром из лесу через «Пенаты» (нам это было позволено с условием – не подходить слишком близко к дому). Шла я растрепанная, босая, разваренная жарой, с черными от черники зубами, вся в комариных укусах. И вдруг с верхнего балкона меня окликнул Илья Ефимович. Я подошла, испугавшись. Вообще-то мы, дети, перед ним не робели, он всегда был с нами приветлив и к нам как-то пристально вглядчив, мы чувствовали его любовь к Корнею Ивановичу, а заодно и к нам; однако на этот раз я испугалась – внезапности, что ли? Может быть, я на цветок наступила или еще провинилась как-нибудь? Но нет, он поздоровался сверху так же ласково, как всегда, и сверху сказал: «Какие у тебя пестрые волосы… Передай родителям, если ты ничем не занята, пусть пришлют тебя завтра в двенадцать ко мне, я буду тебя писать».
На следующий день, к моему удивлению, Корней Иванович самолично отправился меня провожать в «Пенаты» и всю дорогу втолковывал мне, что Репин писать детей не любит, потому что дети не умеют сидеть смирно; а я должна сидеть не шевелясь – «как посадит, так и сиди, ни рукой, ни ногой, ни плечами, ни коленом».
– А если комар? – спросила я.
– Терпи, – ответил Корней Иванович.
На нижнем балконе я застала уже приготовленный холст, палитру, краски и табуретку. Илья Ефимович сначала глянул хмуро: ему не понравилось, что мне заплели косы, он собственноручно расплел, растрепал, спутал мне волосы по-вчерашнему и велел сесть. Я села, не зная, куда девать ноги, руки, плечи, пальцы, пятки, – и зачем это у человека столько всего? Репин меня не пересаживал: «Сиди, как села, только не вертись и смотри вот хотя бы на этот мостик». Я сидела не шевелясь; комары, к счастью, не летали; вот только моргать человеку почему-то требуется каждую секунду. Репин, вглядываясь в меня, клал мазки на холст. И, чтобы развлечь, рассказывал, будто каждый вечер ставит на перила мостика блюдце с лимонадом и туда с сосны прыгает белка и лакает лимонад, как котенок молоко.