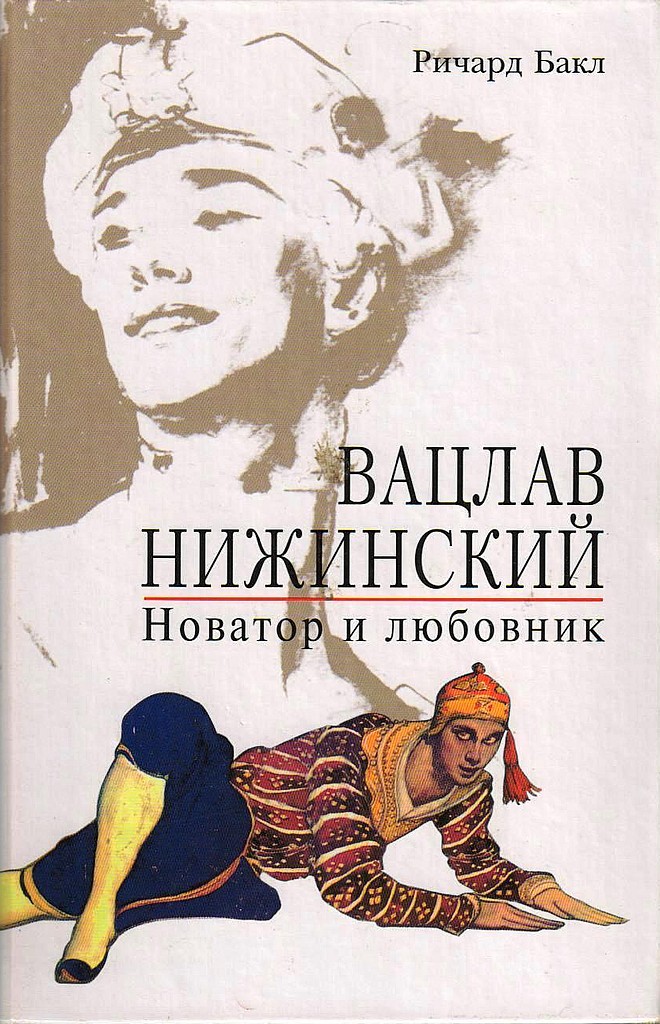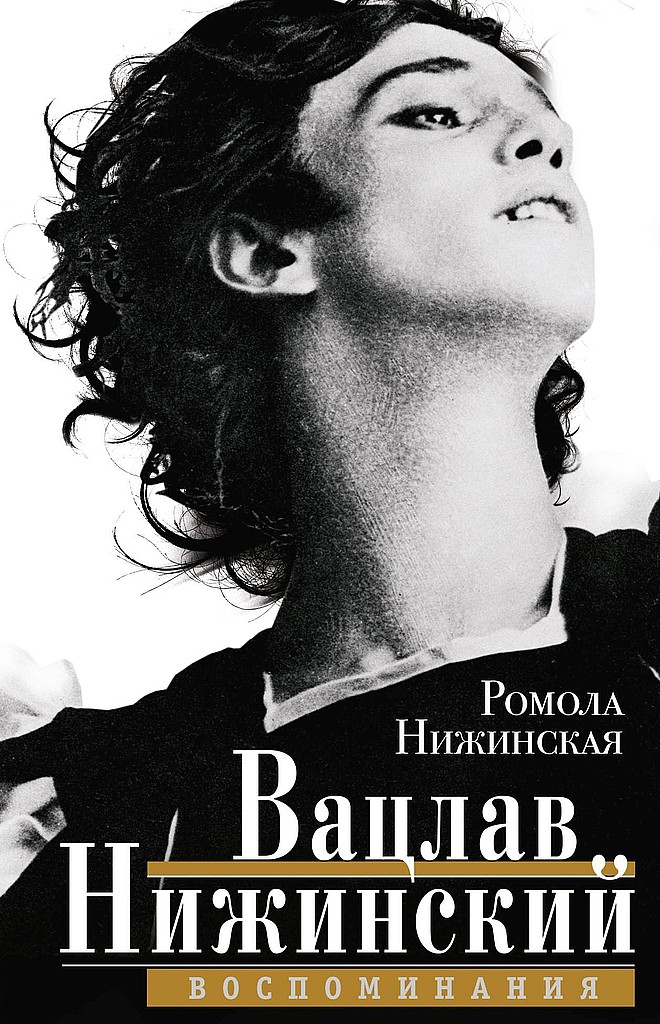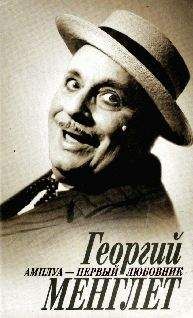хоругви, а тридцать швей что-то шили, чинили и гладили. Я носился как безумный вверх и вниз по всем этажам (ни лифтов, ни внутренних телефонов в театре не было), Дягилев читал корректуру великолепной программы».
Полонез должны были танцевать артисты балета «Гранд-опера», возглавляемые двумя солистами из Петербурга. Это были Александра Васильева, уже немолодая дама, приятельница балетомана Безобразова, и Михаил Александров, красивый и тщеславный парень, возомнивший себя незаконным сыном Александра II [42], которому, как мы вскоре увидим, суждено было сыграть решающую роль в жизни Нижинского.
Наконец-то Дягилев и его товарищи впервые смогли увидеть при свете декорации, написанные в России, развешанными и пригнанными. Перед ними заколыхалась огромная толпа бояр, стрельцов, крестьян и духовенства в костюмах таких цветов и такого великолепия, какого в Париже никогда не видели. Все было готово за несколько минут до начала представления.
«Я едва успел переодеться до открытия занавеса, — пишет Дягилев. — К концу первой сцены стало ясно, что публика принимает спектакль. Сцена в келье Пимена с невидимым хором монахов, поющих за кулисами, произвела сенсационное впечатление, а во время сцены коронации мы поняли, что „Борис“ пройдет с триумфом. Я почти не видел этой сцены, так как наблюдал за выходом процессии статистов. Во время второго антракта, когда рабочие сцены, остолбеневшие от неожиданного успеха, увидели, что я во фраке и белых перчатках принялся передвигать изгороди и размещать скамейки для польской сцены в саду, они бросились мне на помощь. Нам не разрешили воспользоваться водой для фонтана — всю имеющуюся в наличии воду берегли для пожарных, но это не уменьшило успеха польской сцены. Французские дамы, очарованные Смирновым, вскоре стали выводить трели: „О повтори, повтори, Марина!“, произнося свое гортанное „р“. Шаляпин в сцене сумасшествия Бориса произвел потрясающее впечатление, публика и сама словно с ума посходила. Сцена мятежа, развернувшаяся на фоне глубокого снега, эпизод с Юродивым, проезд стоящего в санях Самозванца и большие группы хора, поющие, размахивая факелами, произвели на публику самое благоприятное впечатление. Единственный недостаток во всей постановке — чрезмерно затянувшийся последний антракт, вызванный настойчивым стремлением Вальца повесить огромные и невероятно тяжелые люстры в декорации, представляющей большой зал Кремля. Тогда публика потеряла терпение и стала топать. Но сцена смерти Бориса, когда появились аскетические монахи с высокими свечами и Борис произнес последние слова, обращенные к детям, произвела сногсшибательный эффект. Судьба русской оперы на Западе была решена.
Этой ночью после оперы Шаляпин, шагая рядом со мной по Большим бульварам, повторял снова и снова: „Мы что-то совершили сегодня. Я не знаю что, но мы действительно что-то совершили!“»
Годы спустя в памяти Бенуа по-прежнему сохранялись волнения той ночи.
«Ярким воспоминанием живет еще во мне то, как мы с Дягилевым под ручку, уже на рассвете, возвращались в свои отели, как не могли никак расстаться и как, под пьяную руку дойдя до Вандомской площади, мы не без вызова взглянули на столб со стоящим на его макушке „другим триумфатором“ [43]. Да и потом мы еще долго не могли успокоиться и даже, оказавшись каждый в своей комнате, продолжали переговариваться через дворы соседних домов, я из своего отеля „Ориент“, Дягилев — из „Мирабо“. Уже встало солнце, когда ко мне забрел Сережин кузен Пафка Корибут, тоже сильно пьяненький. Узнав о возможности переговариваться через окно с Сережей, он стал взывать к нему, да так громко, что наконец из разных мест послышались протесты, а в дверь к нам строго постучал отельный гарсон. Насилу я Пафку оттащил от окна и уложил тут же у себя на диване».
Дягилев писал:
«Чтобы показать, насколько недоверчиво в России восприняли наше предприятие в целом, должен отметить, что даже великий князь Владимир Александрович, с такой симпатией ко мне относившийся, не осмелился приехать в Париж на наше первое представление. И только когда его засыпали телеграммами, сообщавшими о триумфе „Бориса“, он и великая княгиня решили воспользоваться северным экспрессом, так как он доставлял прямо к театру. Великий князь был искренне счастлив и горд, что этот проект, который только он и поощрял и в осуществление которого с таким энтузиазмом погрузился, отмечен столь выдающимся успехом. Он был изумлен высоким уровнем нашей постановки, и на вечере, который дал в своем отеле „Континенталь“ для всей труппы и обслуживающего персонала, он произнес небольшую речь, в которой сказал: „Это не благодаря мне или Дягилеву „Борис“ имеет такой успех, это всецело ваша заслуга. Мы только планировали, а вы осуществили“. Артисты хора неправильно истолковали его слова, полагая, что великий князь не доволен мной.
Перед возвращением в Петербург великий князь спросил меня: „Это правда, что вы потеряли 20 000 рублей? Скажите правду, и я попрошу императора компенсировать эту сумму“. Я заверил его, что этот слух не соответствует действительности. Он улыбнулся и сказал: „Может, было бы лучше уведомить меня письменно?“ Я настаивал, что в этой истории нет ни слова правды. Встав и подойдя ко мне, он поднял руку и, перекрестив меня, произнес: „Пусть это благословение сохранит вас от всех злобных интриг!“ Затем он обнял меня».
Вследствие успеха русской оперы в Париже произошло знакомство Дягилева с женщиной, которая впоследствии стала одним из его ближайших друзей. Мися, урожденная Годебская, наполовину полька, наполовину бельгийка, была яркой, привлекательной женщиной лет двадцати с небольшим. Она дружила с Малларме, Лотреком, Ренуаром, Боннаром и Вюйаром (последние четверо написали ее портреты). В то время она была замужем за богатым владельцем газеты «Ле Матен» Альфредом Эдвардсом, хотя вскоре поменяла его на Хосе Марию Серта.
Мися заявила, что «Борис Годунов» — ее вторая любовь после «Пелеаса» Дебюсси.
«На премьеру я пригласила несколько друзей в большую ложу между колоннами. Но к середине первого акта я была настолько растрогана музыкой, что ушла на галерку и просидела там на ступеньке до конца. Сцена сверкала золотом. Голос Шаляпина звучал мощно и величественно под потрясающую музыку Мусоргского… Я покинула театр взволнованная, потому что поняла — что-то изменилось в моей жизни. Музыка звучала во мне постоянно… Я непрестанно расхваливала эту оперу и сводила на нее всех любимых людей… Я посещала все спектакли, но и этого показалось мало, и тогда я велела все непроданные билеты покупать для меня, так чтобы ни одно место не осталось непроданным, и у Дягилева создалась обнадеживающая иллюзия полного финансового успеха».
Что-то из этого списания, возможно, и преувеличено, но Мися действительно проявила себя стойкой сторонницей Дягилева.
«Вскоре после премьеры, — пишет она, — ужиная как-то вечером с Сертом у Прюнье,