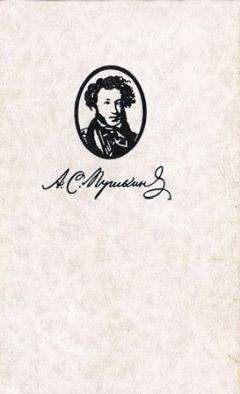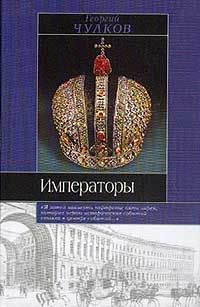Надо сказать и то, что союз, заключенный тогда между «новопутейцами» и такими писателями, как С. Н. Булгаков и H. A. Бердяев, был не совсем натурален. Сошлись люди совершенно иной психологии. Булгаков привел с собою не только «идеалистов», как C. Л. Франк,[155] Н. О. Лосский,[156] П. И. Новгородцев[157] и др., но и целую группу сотрудников вроде В. В. Водовозова,[158] М. И. Туган-Барановского,[159] Л. Н. Яснопольского[160] и др.
Экономисты и публицисты, даже не по взглядам своим, а просто по своим интересам, были совершенно чужды главным сотрудникам «Нового пути», но и сами философы — С. Н. Булгаков и H. A. Бердяев — по своей душевной природе были люди не совсем «свои».
Мережковский и его друзья, а еще более З. Н. Гиппиус и поэты, ее окружавшие, — Блок, Белый и многие dii minores,[161] как, например, Леонид Семенов,[162] А. Кондратьев…[163] — все они были совершенно оторваны от традиционной психологии нашей интеллигенции. Русские интеллигенты (по крайней мере, в главном и широком русле нашей общественности) с конца сороковых годов уже до такой степени связаны были тем или другим политическим направлением, что совершенно утратили способность видеть в культуре нечто самостоятельное. Поэзия, философия, живопись — решительно все рассматривалось и оценивалось с точки зрения социальной полезности. При этом и самая идея «полезности» понималась до странности наивно. Вот почему «Новый путь» был совершенно не похож на наши толстые ежемесячники, пухлые и серые, очень назидательные и очень пресные. Самый стиль и композиция «новопутейских» статей вовсе не походили на обычные статьи наших направленских журналов. В «Новом пути» печатались по преимуществу статьи краткие и афористичные. Авторы заботились не столько о политической добродетели, сколько об убедительности мысли и выразительности языка. Расчет был на читателя догадливого, и поэтому авторы не размазывали своих тем. В наших тогдашних толстых ежемесячниках сотрудники, за редким исключением, писали одним языком и одним стилем. В «Новом пути» дорожили своеобразием. Значительная часть «новопутейцев» состояла из «декадентов». С. Н. Булгаков весь был преисполнен самой высокой добродетели и больше всего боялся «порочных» поэтов. Он сразу почувствовал, что я не так уж строг к декадентам, и умолял меня быть осмотрительней в отделе поэзии.
H. A. Бердяев, который поселился в Петербурге, оказался менее prude,[164] чем его собрат по философии. У него даже была склонность пококетничать своим эстетическим вольномыслием. Он любил Верлена, Гюисманса,[165] Вилье де Лиль Адана[166] и все, что полагалось по декадентскому канону.
Последние три книжки «Нового пути» за 1904 год вышли уже при участии С. Н. Булгакова и H. A. Бердяева. Литературная часть осталась неприкосновенной. Я отстоял символистов. Но философские и публицистические статьи были уже иного, не «новопутейского» стиля.
В это время и Булгаков, и Бердяев переживали второй духовный кризис. Когда-то ревнители «диалектического материализма» — они, вкусив чашу с кантианским ядом,[167] не могли уже вернуться в стан своих недавних единомышленников. Но теперь они были на пороге нового миросозерцания. Кантианский идеализм их не удовлетворял. Булгаков в своих программных статьях уже заключает слово «идеализм» в кавычки. Оба они склонялись все более и более к «положительной религии»[168] — но, спутанные по рукам и ногам интеллигентской фразеологией, еще не решались порвать с традиционным публицистическим подходом к вопросам духовной культуры.
Я сейчас, набрасывая эти строки, решил перелистать последние книжки «Нового пути» за 1904 год. И вот что, «пыль веков от хартий отряхнув»,[169] прочел я в конце последней декабрьской программной статьи С. Н. Булгакова, посвященной аграрному вопросу: «Выставляя трудовое начало, как высшую норму аграрной политики, мы сочтем этот принцип осуществленным только тогда, когда он явится единственным началом организации землевладения и земледелия и когда нетрудовое хозяйство окончательно упразднится, уступив свое место крестьянскому трудовому хозяйству, которое, объединяясь в артели, кооперации и всякие трудовые братства, протянет братскую руку и пойдет навстречу городскому пролетариату, стремящемуся дать торжество тому же трудовому началу, хотя и своим особым путем…»
Так. С. Н. Булгаков на «идеализме» старался обосновать радикальную социальную программу — в надежде, что очень скоро «нетрудовое хозяйство окончательно упразднится».
Философствовать по этому поводу я не намерен, ибо в моих непритязательных записках я рассказываю не об идейной тогдашней эволюции нашей, а просто о людях и фактах, сознательно оставаясь в пределах психологизма…
Сам я никогда не был идеалистом, если под идеализмом разуметь классическую немецкую философию, а что касается собственно кантианской гносеологии, то в плену ее был я очень недолго. И скоро сделался яростным ее ненавистником, считая себя «реалистом в высшем смысле»,[170] как выражался Достоевский и его герой Мышкин.
Я уже сказал, как трудно было мое положение между двух редакционных групп «Нового пути». Я чувствовал, что Мережковские как будто меня ревновали к новым людям, которых сами же пригласили. Кончилось все это очень печально. По какому-то поводу (кажется, это была статья З. Н. Гиппиус, которую я отказался печатать) у меня произошел с Мережковским спор о моих правах как члена редакции. Вызвали телеграммой в Петербург Булгакова. Мережковские предложили ультиматум: или они в редакции, или — Чулков.
Конечно, у Мережковских было тогда неизмеримо больше литературных прав и заслуг, чем у меня. Я был тогда слишком молод.
Но на редакционном собрании, в котором я — кстати сказать — не принимал участия, большинство высказалось за то, что продолжать журнал без меня невозможно. Так прекратил свое существование «Новый путь».
Конфликт Мережковских со мною был, конечно, случайностью. Он послужил только поводам. А дело было в том, что «в одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань».[171] Я, однако, не понимал, что Мережковские не простят мне этого крушения «Нового пути». С совершенной наивностью пошел я на ближайший журфикс[172] Мережковских, воображая, что литературный спор не помешает нам быть в прежних дружелюбных отношениях. Увы! Прелестная Зинаида Николаевна смотрела на меня такими злыми глазами и метала в меня такие отравленные стрелы, что я понял, каких свирепых врагов я себе нажил. С этого дня началась литературная кампания против меня, но еще целый год велась она глухо и сдержанно. Буря засвистела над моей головой позднее, в 1906 году. Целый год еще враги не решались открыто меня атаковать, ибо у меня была сильная позиция — журнал «Вопросы жизни», создавшийся на развалинах «Нового пути».