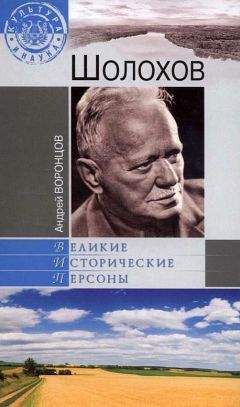VIII
Вернувшиеся как ни в чем не бывало в Каргинскую чекисты начали расследование и эпизоду в клубе уделили большое, даже слишком, по мнению Михаила, внимание. Вновь появился уже сидящий у Мишки в печенках Резник, без всяких сомнений невзлюбивший его после разговора в красноармейской школе, и, не обинуясь, стал спрашивать, не являлось ли представление в Каргинской ловушкой для советских работников и чоновцев, приготовленной с его, Мишкиным, участием. Михаил сослался на план работы народного театра, утвержденный культпросветом за месяц до налета махновцев. Тогда Резник спросил, почему они продолжили представление после налета. «Жить хотелось», — прямо ответил Мишка. «Правильно тебя не приняли в комсомол! Ты капитулянт, на тебе клеймо класса. Непонятно только, почему комсомольцы, занятые в пьесе, тоже продолжали играть. Ты заставил?» Михаил пожал плечами: «Я сказал им, что махновцы могут нас всех пострелять в случае отказа». — «Ага! Так и запишем». — «А какое это имеет значение? Ведь всех коммунистов, которых, как вы считаете, я заманил в ловушку, к тому времени уже вывели из зала». — «Имеет! Махно счел твою пьесу подходящей для агитации, если начал митинг сразу после нее. Не знаю, куда смотрел ваш культпросвет. Будем разбираться. Ты выбрал самое шовинистическое, самое позорное произведение Гоголя. Почему?» — «Между прочим, то, что пьеса «шовинистическая», сказал и сам Махно, и какой-то очкастый из его штаба. — Мишка едва удержался от того, чтобы сказать, что он был похож на Резника. — Я, конечно, еще не комсомолец, но мне кажется, если и враги, и большевик дают одинаковую оценку, то они оба не правы». — «И не станешь им никогда! Слишком многое тебе кажется! Те, кто у Махно в штабе сидят, не всегда были нашими врагами — они в свое время боролись с нами заодно против царизма и антисемитизма! Так что в данном случае они могли быть правы». — «А может быть, они правы потому, что ты, как и они, агент мирового правительства?» — подумал про себя Михаил, а вслух сказал: «Что-то не пойму я вас… То моя пьеса способствовала махновской агитации, то не способствовала… Что касается царизма и антисемитизма, то вы же отобрали у меня текст, утвержденный пролеткультом. Убедитесь сами, что я изъял у Гоголя все, что относилось к царю и евреям. Остались только слова Тараса о русском товариществе, которые, конечно, у меня подразумевают наше, советское товарищество. Но не могу же я в пьесе времен Богдана Хмельницкого писать — «советское»!». — «Ты меня не запутаешь, мальчик. Я член партии с 1907 года. То, что понравилось Махно, совсем необязательно могло понравиться анархистам-теоретикам из его штаба. Показания зрителей и артистов говорят, что Махно назвал твою пьесу «доброй» и осудил только ее «москальский» конец. Так?»— «Ну, так», — неохотно признался Михаил. «Вот так-то! Нужно разоружаться перед партией, господин молодой мельник! На чью мельницу льешь воду? Если бы у тебя стояло там «украинское» или «казацкое» товарищество, Махно вообще не за что было бы пьесу осуждать! А теперь скажи-ка мне, о чем вы с ним «гутарили» у него в штабе? Новое задание от него получил? Какое?» — «Кабы он решил мне новое задание дать, то, наверное, не уводил бы меня при всех, а встретился бы тайно. Как я от него могу какие-то задания получать, если видел его в первый раз в жизни, не был никогда в Гуляй-Поле? Вы можете это проверить». — «Проверим все, что нам надо. Махно тоже не бывал прежде здесь, на Дону, однако вот пришел и быстро с некоторыми вашими бандитами спелся. Это что — случайно? О чем вы с ним разговаривали?» — «Махно сказал, что некому стало писать летопись его движения, а потом предложил перейти в его культпросвет… — Резник прервал его, торжествующе подняв вверх скрюченный, с обкусанным до мяса ногтем палец: «Вот! Вот! А ты со мной споришь, что вражескую пьесу написал!» — …чтобы ставить пьесы Шевченки и этой, как ее… Маруси… нет — Лэси Украинки. Я твердо ему ответил, что работать в его культпросвете не буду и убежден, что он скоро будет разбит большевиками. Махно пригрозил мне расстрелом и позвал своего Лепетченко, но потом вдруг смилостивился и сказал, что с детьми он не воюет». — Михаил намеренно с нажимом произнес последние слова, глядя, хоть это ему удавалось не без труда, прямо в недобрые, черновато-пепельные, как две потухшие папиросины, зрачки Резника.
Тот не обратил никакого внимания (или сделал вид, что не обратил) на тираду о детях и стал спрашивать, что еще было у Махно. Миша охотно рассказал про несчастного Лашкевича, про то, как разочарован был Махно реакцией станичников на свою речь в народном доме. Резник очень внимательно все записал. Отпустил он его только поздней ночью, сказав при расставании те же слова, что и Нестор Иванович: чтобы к театру больше не подходил на пушечный выстрел. За дверью ревкома тоже все повторилось, как и давеча: жалкие фигуры озябших родителей, объятия, скользкая дорога домой, тусклый свет в родном окошке…
Учительство в начальной школе тоже пришлось оставить. Директора, бывшего Генерального штаба казачьего офицера Григория Яковлевича Каргина, затаскали в Вешенскую в Дончека, хотя он у белых не служил и в восстании не участвовал. Михаил решил, что неприятностей у Каргина хватает и без него, и объявил ему, что уходит. К тому времени Александр Михайлович уже нашел себе работу, которая, на первый взгляд, называлась солидно: «заведующий Каргинской заготконторой № 32». На самом же деле заготконторой был ссыпной пункт, в который продотряды свозили реквизированное зерно, а повстанческие отряды, наоборот, оттуда его увозили. Устроиться туда заведующим означало примерно то же самое, что живьем добровольно записаться в покойники. Повстанцы (большевики называли их бандитами) при налетах атаковали первым делом два объекта: исполком и заготконтору. Правда, предводитель местных партизан Фомин (тот самый, что в январе 19-го открыл фронт красным), приятельствовавший с Павлом Дроздовым и хорошо помнивший Александра Михайловича, не трогал его, понимая, очевидно, что бывший хозяин мельницы не от хорошей жизни пошел в заготконтору. Фомин забирал или раздавал казакам зерно и исчезал, чтобы недели через две появиться вновь. Затем неизменно приезжала Дончека, Резник или кто другой, и начинались вопросы, сводящиеся, в сущности, к одному: «А почему тебя не расстреляли? Ты что, с ними заодно?»
От такой жизни Александр Михайлович, прежде к спиртному равнодушный, стал «зашибать». Компанию ему чаще всего составлял младший брат Петр Михайлович, тоже маявшийся в новой жизни. Анастасия Даниловна накрывала на стол чем Бог послал и уходила по своим делам. Когда возвращалась, то здоровенная бутыль, принесенная Петром Михайловичем или извлеченная из заветного схрона отцом, обычно бывала уже пуста.