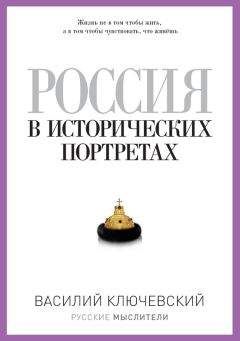Черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей, а его политический образ мыслей оказал сильное, притом вредное, влияние на его политический образ действий, испортил его.
Ранняя мысль о власти. Иван рано и много, раньше и больше, чем бы следовало, стал думать своей тревожной мыслью о том, что он государь Московский и всея Руси. Скандалы боярского правления постоянно поддерживали в нем эту думу, сообщали ей тревожный, острый характер. Его сердили и обижали, выталкивали из дворца и грозили убить людей, к которым он привязывался, пренебрегая его детскими мольбами и слезами. У него на глазах выказывали непочтение к памяти его отца, может быть, дурно отзывались о покойном в присутствии сына. Но этого сына все признавали законным государем. Ни от кого не слышал он и намека на то, что его царственное право может подвергнуться сомнению, спору. Каждый из окружающих, обращаясь к Ивану, называл его великим государем; каждый случай, его тревоживший или раздражавший, заставлял его вспоминать о том же и с любовью обращаться к мысли о своем царственном достоинстве как к политическому средству самообороны.
Ивана учили грамоте, вероятно, так же, как учили его предков, как вообще учили грамоте в Древней Руси, заставляя твердить Часослов и Псалтырь с бесконечным повторением задов, прежде пройденного. Изречения из этих книг затверживались механически, на всю жизнь врезывались в память. Кажется, детская мысль Ивана рано начала проникать в это механическое зубрение Часослова и Псалтыря. Здесь он встречал строки о царе и царстве, помазаннике Божием, нечестивых советниках, блаженном муже, который не ходит на их совет, и т. п. С тех пор как стал Иван понимать свое сиротское положение и думать об отношениях своих к окружающим, эти строки должны были живо затрагивать его внимание. Он понимал эти библейские афоризмы по-своему, прилагая их к себе, к своему положению. Они давали ему прямые и желанные ответы на вопросы, какие возбуждались в его голове житейскими столкновениями, подсказывали нравственное оправдание тому чувству злости, какое вызывали в нем эти столкновения. Легко понять, какие быстрые успехи в изучении Святого Писания должен был сделать Иван, применяя к своей экзегетике такой нервный, субъективный метод, изучая и толкуя слово Божие под диктовку раздраженного, капризного чувства. С тех пор книги должны были стать любимым предметом его занятий.
От Псалтыря он перешел к другим частям Писания, перечитал много, что мог достать из тогдашнего книжного запаса, вращавшегося в русском читающем обществе. Это был самый начитанный москвич XVI в. Недаром современники называли его «словесной мудрости ритором». О богословских предметах он любил беседовать, особенно за обеденным столом, и имел, по словам летописи, особливую остроту и память от Божественного Писания. Раз в 1570 г. он устроил в своих палатах торжественную беседу о вере с пастором польского посольства, чехом-евангеликом Рокитой, в присутствии посольства, бояр и духовенства. В пространной речи он изложил протестантскому богослову обличительные пункты против его учения и приказал ему защищаться «вольно и смело», без всяких опасений, внимательно и терпеливо выслушал защитительную речь пастора и после написал на нее пространное опровержение, до нас дошедшее.
Этот ответ царя местами отличается живостью и образностью. Мысль не всегда идет прямым логическим путем, натолкнувшись на трудный предмет, туманится или сбивается в сторону, но порой обнаруживает большую диалектическую гибкость. Тексты Писания не всегда приводятся кстати, но очевидна обширная начитанность автора не только в Писании и отеческих творениях, но и в переводных греческих хронографах, тогдашних русских учебниках всеобщей истории. Главное, что читал он особенно внимательно, было духовного содержания; везде находил он и отмечал одни и те же мысли и образы, которые отвечали его настроению, вторили его собственным думам. Он читал и перечитывал любимые места, и они неизгладимо врезывались в его память. Не менее иных нынешних записных ученых, Иван любил пестрить свои сочинения цитатами кстати и некстати. В первом письме к князю Курбскому он на каждом шагу вставляет отдельные строки из Писания, иногда выписывает подряд целые главы из ветхозаветных пророков или апостольских посланий и очень часто без всякой нужды искажает библейский текст. Это происходило не от небрежности в списывании, а оттого, что Иван, очевидно, выписывал цитаты наизусть.
Идея власти. Так рано зародилось в голове Ивана политическое размышление – занятие, которого не знали его московские предки ни среди детских игр, ни в деловых заботах зрелого возраста. Кажется, это занятие шло втихомолку, тайком от окружающих, которые долго не догадывались, в какую сторону направлена встревоженная мысль молодого государя, и, вероятно, не одобрили бы его усидчивого внимания к книгам, если бы догадались. Вот почему они так удивились, когда в 1546 г. шестнадцатилетний Иван вдруг заговорил с ними о том, что он задумал жениться. Но прежде женитьбы он хочет поискать прародительских обычаев, как прародители его, цари и великие князья и сродник его, Владимир Всеволодович Мономах, на царство, на великое княжение садились. Пораженные неожиданностью дум государя, бояре, прибавляет летописец, удивились, что государь так молод, а уж прародительских обычаев поискал.
Первым помыслом Ивана при выходе из правительственной опеки бояр было принять титул царя и венчаться на царство торжественным церковным обрядом. Политические думы царя вырабатывались тайком от окружающих, как тайком складывался его сложный характер. Впрочем, по его сочинениям можно с некоторой точностью восстановить ход его политического самовоспитания. Его письма к князю Курбскому – наполовину политические трактаты о царской власти и наполовину полемические памфлеты против боярства и его притязаний. Попробуйте бегло перелистать его первое длинное-предлинное послание – оно поразит вас видимой пестротой и беспорядочностью своего содержания, разнообразием книжного материала, кропотливо собранного автором и щедрой рукой рассыпанного по этим нескончаемым страницам. Чего тут нет, каких имен, текстов и примеров! Длинные и короткие выписки из Святого Писания и отцов Церкви, строки и целые главы из ветхозаветных пророков – Моисея, Давида, Исаии; новозаветных церковных учителей – Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста; образы классической мифологии и эпоса – Зевс, Аполлон, Антенор, Эней – рядом с библейскими именами Иисуса Навина, Гедеона, Авимелеха, Иевффая, бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов со средневековыми именами Зинзириха Вандальского, готов, савроматов, французов, вычитанными из хронографов, и, наконец, порой невзначай брошенная черта из русской летописи. И все это, перепутанное, переполненное анахронизмами, с калейдоскопической пестротой, без видимой логической последовательности всплывает и исчезает перед читателем, повинуясь прихотливым поворотам мысли и воображения автора. Вся эта, простите за выражение, «ученая каша» сдобрена богословскими или политическими афоризмами, настойчиво подкладываемыми, и порой посолена тонкой иронией или жестким, иногда метким, сарказмом. «Какая хаотическая память, набитая набором всякой всячины», – подумаешь, перелистав это послание. Недаром князь Курбский назвал письмо Ивана «бабьей болтовней», где тексты Писания переплетены с речами о женских телогреях и о постелях.