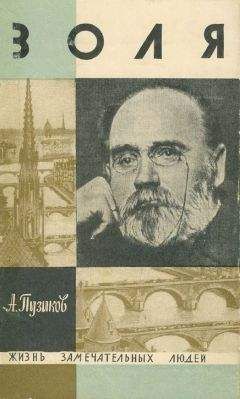Глава десятая
Декабрьским утром 1868 года Золя отправился на завтрак к Гонкурам. Они жили на бульваре Монморанси, и добираться к ним нужно было поездом. Зима уже установилась, и Золя с наслаждением вдыхал свежий морозный воздух, думая о предстоящем визите. В Отейле он будет впервые. Братья вели затворнический образ жизни и чаще наносили визиты другим, чем приглашали к себе. В этот дом входили только избранные. Может быть, потому, что это первый визит к прославленным писателям, а может быть, потому, что Гонкуры были для него литературными учителями, Золя испытывал некоторый трепет. Что ни говори, а это им он во многом обязан направлением своих мыслей. Без «Жермини Ласерте», возможно, не было бы и «Терезы Ракен». От знакомых литераторов Золя много слышал о домике в Отейле. Он полон удивительных вещей: старый фарфор, которому могли бы позавидовать коллекции в Лувре, японские миниатюры, мебель времен регентства герцога Орлеанского.
Дверь открыла служанка, и Золя очутился в вестибюле, в котором все говорило, что ты попал в жилище художников: фаянс, бронза, фукузы — шелковые вышитые салфеточки, в которые японцы заворачивают подарки. Он едва успел снять пальто и шляпу, как на пороге появились Гонкуры. Оба аристократически сдержанны и в то же время любезны. Движения их неторопливы и изящны. Старший немного выше. Или, может быть, это только кажется. У младшего болезненный, усталый вид, блестящие глаза. Гонкуры здороваются и приглашают пройти в гостиную. Да, это настоящий музей. Золя с любопытством разглядывает Гаварни. На лицах Эдмона и Жюля улыбки. Они недавно приобрели акварель и, как истые коллекционеры, радуются тому, что гость обратил на нее внимание. Следуют пояснения, очень лаконичные, но выразительные, обнаруживающие высокий профессиональный вкус. Осмотр других диковинок занимает немало времени, но это не утомляет. Если бы были лишние деньги, Золя и сам увлекся бы коллекционированием. У каждого произведения искусства, у каждой старинной вещи свое лицо, своя душа. Они рассказывают о том времени, когда их сотворила рука мастера, о самом мастере, об их владельцах. Для писателя неодушевленные предметы, окружающие людей так же важны, как и сами люди. Это прекрасно понимал Бальзак, начинавший свои романы с описания мира вещей, в котором должны жить, любить, страдать и умирать его герои. Может быть, Бальзак чересчур утилитарно использовал этот прием. Вещи заслуживают большего, в них воплощены труд человека, его мысль… Как много говорят зрителю и читателю натюрморты!
Обо всем этом надо на досуге подумать.
Но вот подан завтрак. Хозяева и гость входят в столовую, и Золя вновь и вновь замечает на себе пристальные взгляды Эдмона и Жюля. Его изучают, исследуют две пары внимательных глаз. Странное чувство охватывает Золя. Говорят, что братья ведут дневник… Но неловкое чувство проходит, когда завязывается беседа. Традиционный вопрос: над чем вы сейчас работаете? Золя очень легко ответить на это. Все его мысли сосредоточены на большой серии романов, план которой он должен скоро представить издателю Лакруа. Но Золя решает начать с другого.
— Видите ли, мои планы зависят не столько от меня, сколько от издателей. Мне приходится работать ради денег и редко удается делать то, что по душе. Мне хотелось бы, мне необходимо найти издателя, который купил бы мои будущие книги на шесть лет вперед за 30 тысяч франков. Пять-шесть тысяч франков в год для меня и матери вполне достаточно. Вы не можете себе представить, как надоело мне сочинять статьи для подлых, гнусных газет… Я окружен людьми, которые навязывают мне свое мнение.
Золя заметно волнуется и делает паузу. Можно ли быть до конца откровенным с Гонкурами, которые бывают на приемах у принцессы Матильды? Э, да что там! Пускай послушают. И он продолжает:
— Ведь нужно прямо сказать, что наше правительство равнодушно к талантам и ко всему тому, что создает талант.
Золя смотрит на Гонкуров, но они сохраняют спокойствие, и Эдмон даже кивает головой в знак согласия.
— Но если бы нашелся такой издатель? — спрашивает Жюль.
— О, тогда бы я создавал крупные вещи и написал «Историю одной семьи», роман в десяти томах. Но пока это только проект, над которым я сейчас работаю.
Речь заходит о «Терезе Ракен» и только что опубликованной «Маулен Фера». Гонкуры с похвалой говорят о том и другом романах. Однако кое-что им не нравится.
— Ваши герои, — говорит Жюль, — соединяют в себе два противоположных типа, в них слито мужское и женское начало. Они полны двусмысленных контрастов.
— Но «Тереза Ракен» превосходное произведение, — замечает Эдмон.
— Да, вы правы, мне предстоит еще многое искать. Мой роман действительно расшатан. И если доведется делать из него пьесу, я последую вашему совету. А потом, ведь мы пришли позднее и знаем, что вы наши братья: Флобер и вы. Да, вы! Даже враги признают, что вы сказали новое слово в искусстве: они думают, это ничего не значит, а ведь это все!
Золя уходит от Гонкуров возбужденным, на него всегда так действуют разговоры о творчестве, об искусстве. Он идет домой и думает о работе. План «Истории одной семьи» почти готов. К январю он наверняка его закончит. «История одной семьи». Это пока условно. Его герои — выходцы из Прованса. Нужно найти очень типичные для юга Франции фамилии, которые дадут название всему произведению. Золя меняет их уже много раз. Ругон-Сарда, Ругон-Шантегрейль, Ругон-Маласенни, Давид-Мурльеры… Следовало бы посоветоваться с Сезанном или Мариусом Ру. Они-то знают родословную всех жителей Экса.
Но это не главное. Важна идея, которая его одолевает с юношеской поры, — создать грандиозную вещь, что-то подобное «Божественной комедии» Данте или «Человеческой комедии» Бальзака. Золя невольно вспоминает первые свои поэмы, в которых он тоже стремился к большим масштабам, к цикличности. «Любовная комедия», поэма «Бытие». Это было давно, и какая наивная дань романтизму! Впрочем, в поэме «Бытие» он пытался использовать данные науки.
— Бальзак! Вот кого надо взять за образец. Этот могучий гений создал великое произведение. И однако, ему не следует подражать. Надо создавать новое, свое. Бальзаку слишком поздно пришла мысль объединить разрозненные вещи в единое целое. Мысль о «Человеческой комедии» осенила его тогда, когда треть произведений была уже написана. У меня с самого начала будет строгий план, объединенный общей идеей. К тому же Бальзак, прежде чем дойти до правды в искусстве, долго блуждал в самых диковинных выдумках… Можно даже сказать, что он никогда не мог вполне отделаться от пристрастия к чрезвычайным происшествиям. У меня же будет подлинно научный роман.