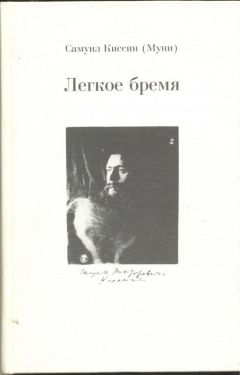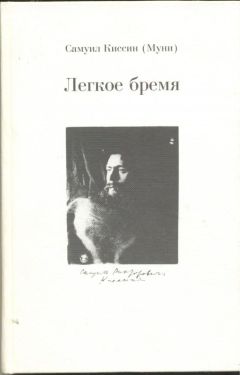Мокрые дорожки с водой, стоящей по краям клумб тонкими лужицами, полны мертвых земляных червей. Хочу и шлепаю подошвами. Какой крепкий, здоровый звук от сырой земли! Небо светлое после грозы, словно не сияет, а улыбается, как выздоровевшая больная. Совсем какая-то особенная, осмысленная улыбка. Так должна смотреть чуть оправившаяся родильница на первого своего ребенка. Деревья при малейшем ветре отряхиваются как зеленые пудели и обдают меня брызгами. Нужно вычерпать воду из лодки и уехать.
Большая усталость осталась у меня от зимы. Слишком часто я видел людей, слишком много говорил и слышал. И работа, прерываемая телефонными звонками, была, пожалуй, тоже изнурительна. Правда, нетрудно записывать заказы и переводить в контрольную книгу деловые письма. Но разве не устаешь от этого? Целый день гнешь спину над конторкой, пьешь чай, куришь, говоришь по телефону.
У меня были сослуживцы, которые считали себя предназначенными к лучшему, чем сидеть в длинной комнате за конторками. Они по вечерам в трактире бурно говорили, что подлая работа их убьет, что это бессмысленное сиденье хоть кого сделает идиотом. Но все они продолжают служить, а меня управляющий рассчитал. Месяц я прожил на те деньги, что у меня были. Потом ночевал в чайных, потом в участке. Потом встретил Мелентьева. Он дал мне денег на дорогу и отослал сюда.
Каждый служащий в конторе имеет невесту или возлюбленную, с которой он ездит за город. У меня ничего этого не было, и потому жить одному здесь мне не трудно. Порой мне кажется, что я от себя что-то скрываю, но я отмахиваюсь от досадных мыслей, и так как я целые дни езжу на лодке, гуляю и гляжу, — мне это удается. Я забываю себя иного, не прежнего, нет, совсем иного. У меня теперь даже другое имя. Имя спокойного, рассудительного человека: Алексей Васильевич Переяславцев, и только в письмах к племяннице я — дядя Саша. Жизнь мою — жизнь Алексея Васильевича — я знаю очень подробно, твердо знаю мои планы, ценю свой ровный характер, неприхотливость, и уважаю всех моих знакомых, за исключением покойного Александра Никитича Большакова, умершего, к величайшему его счастью, в апреле месяце 190* года, в Москве.
2.
Когда я кончил гимназию, мой отец, чиновник губернского присутствия, Василий Николаевич Переяславцев, сказал мне: «Алеша, у тебя хороший характер. Ты сам пробьешь себе дорогу без моей помощи. Вот, ты поступаешь на филологический. Мне это не очень нравится, но я тебе не перечу. Тебе знать лучше. Боюсь только одного: как бы твоя, как бы это проще сказать… как бы твоя способность довольствоваться малым не привела тебя к чему дурному. То есть, я не хочу сказать, что ты дурным человеком сделаешься, нет, — а настоящего положения не займешь. Так-то, брат! А ты подумай!»
Я уехал в Москву, а через два месяца умер мой отец. Сразу. В жаркую погоду, хорошею смертью, как умирают здоровые люди средних лет. Других детей у отца не осталось. Наследство я получил самое маленькое. Больше, платье, которое мне было не в пору.
А слова отца оправдались. Я скоро оставил университет, не пришелся ко двору в конторе, и теперь живу в чужом доме на чужой счет. Просто и хорошо.
Я совсем не бездельник, но дела у меня сейчас нет. А жить на средства Мелентьева мне не унизительно. Главное, Большакова теперь нет, и я совершенно спокоен. Я даже, верно, скоро буду в состоянии вспоминать о нем.
А теперь я буду ходить и знать, что это я, Переяславцев, хожу; плавать и знать, что это я плаваю; жить и знать, что это живу я!
Дни опять прояснились. По лесу, по парку пошли грибы. И я хожу, низко наклонившись, чуть не тычусь в землю носом, разбираю тонкую, цепкую, ползучую траву, слегка взрываю мох и собираю мелкие белые грибки.
По прежнему езжу на лодке, смотрю на озеро со всем, что на нем есть, — с небом, камышами, купальщиками. Сам купаюсь — прыгаю с лодки и бултыхаюсь, фыркая.
Алевтина Петровна не заходит. С Марьей я говорю только самые необходимые слова. Зато на лодке, далеко заплыв в озеро, пою диким голосом все, что знаю, чего маленькие хоть обрывки застряли у меня в памяти.
Дни ясные, чуть холодные, чуть напоминающие осень.
Такого душевного здоровья я, кажется, никогда не испытывал. Можно вспомнить и об Александре Никитиче. Вспомнить без злобы, как о действительно умершем.
Александр Никитич Большаков, т. е. я сам до 190* года, был очень неудачлив. Он знал это. Его увлечения (а увлекался он очень многим) приводили его или к мысли, что предмет увлечения слишком мелок, или к сознанию своего бессилия. Если Александр Никитич интересовался каким-нибудь отвлеченным вопросом, — он составлял себе список книг. Приходил в отчаяние от количества их и от своего незнания иностранных языков. Ну, и бросал все, конечно.
Если какая-нибудь женщина тревожила его душу, он подолгу думал, что будет ей говорить и в какой позе, но ограничивался на деле только тем, что тщательно причесывался.
Как-то вообразил он, что должен сделаться пьяницей, но на третий день своего пьянства заболел.
Его увлечения сменялись с быстротой, по истине — головокружительной, не осуществляясь. И вот сквозь пресыщение воображаемым все резче проступало: так продолжаться не может, не должно! И отвращение к себе и жажда обратного себе медленно и болезненно слагалась в облик иного человека, иной души.
Этот иной человек был я, Переяславцев, Алексей Васильевич, Переяславцев. Я, — сначала желанный гость, потом — назойливый посетитель, — стад хозяином.
Я, Переяславцев, имею свои привычки, свое лицо, свою душу. Я только живу по паспорту Большакова, но его нет! Он только снится мне. (Тяжелый сон!)
Нет! я еще не могу вспомнить о нем без злости. Он был лучше, был больше, чем я хочу его представить себе. Он, может быть, был лучше меня. Но я не хочу им быть, не хочу его! Я похоронил его с его глупой восторженностью, с его любовью. Я даже панихиду отслужил по «болярину Александру»!
Но я боюсь его. У него есть повой прийти, и тогда — прощайте, моя ясные дни! торжествуйте, дачницы! я с вами буду вздыхать: «милые деревья!», буду рифмовать «осень» и «просинь», запускать во все — в людей, в леса, воду словарем умилительных и уменьшительных словечек!
Нет! Шалишь! Сразу я не сдамся. Что прийти у тебя есть повод, я знаю, но я упрячу тебя подальше. Я законопачу тебя!
Я тебя и в шутку вспоминать не буду!
Не легко унять восставшие воспоминания. Сегодня мне снился его сон. Смешной, трагический, идиллический, — черт знает какой! Усилием воли заставил я себя проснуться.
И какие основания у него воскреснуть и убить меня? Любовь? Но разве не всякую дрянь способен обожествить человек? Да еще глупый и восторженный, как Большаков? И вот, из-за юбки, из-за барышни я должен ему уступить? Только потому, что у него есть эта им же осветленная, озолоченная девчонка, а у меня нет?