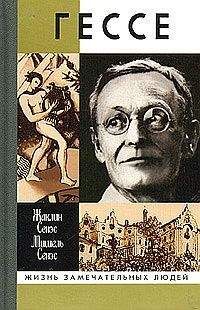Так в пятнадцать лет Герман ощутил аромат женщины, прислушался к звукам ее голоса, пожертвовал ей отпущенные ему мгновения свободы, более щедрые, чем жестокие отповеди с интонацией Иеговы, будто изливающиеся из библейских туч. Опять этот непокорный ребенок пошел по запретному пути. Блумхардт, как и отец, воплощал для него вечный символ авторитарности и долга, а Евгения, как и Мария, в колыханье юбок и запахе скошенной травы ассоциировалась с прелестью чувственного мира, где жаждут и губы, и пальцы. Ему приходилось менять эти палитры — от предвкушения блаженства переходить к пуританским ужасам, от евангельских проповедей обращаться к молчаливой женской нежности. Вновь он влеком то логикой разума, то чувственностью плоти. Он хотел бы выбрать наконец что-нибудь одно и теперь знает, что скорее выберет плотское, чем ангельское.
Пастор начинает сомневаться в возможности спасения своего юного пациента. Тот будто ускользает из его рук. Герман рассеян, у него необычно красные глаза, он задает глупые вопросы, кричит ночью, как сова, кидается обнаженным по грудь в источник, жует калину, вечно простужен, плохо спит — сумасшедший, более чем когда-либо. Он ничего не видит, ничего не слышит и думает о смерти. Он скопил денег и купил в городской оружейной лавке револьвер. Сильная рука Блумхардта вырвала его у Германа как раз тогда, когда тот собирался поднести его к виску.
Мария приехала в Бад-Болл 22 июля. Они встречаются в салоне, где пахнет ментолом и целебной водой: сумрачный Герман, ворчливый Блумхардт и взволнованная мать. Пастор категоричен: психиатрическая лечебница. «В заключение, — записывает измучившаяся Мария, Кристоф Блумхардт посоветовал отправиться к пастору Шаллу в Штеттен и поручить сына ему. С себя он дальнейшую ответственность решительно снимал».
Лечебница располагалась в средневековом замке, где с 1864 года содержались дефективные и больные истерией дети. Герман насторожился: «Вы хотите меня запереть». Он стал противиться, вплоть до угроз: «В эту тюрьму? Никогда! Лучше утопиться!» Мария умоляла его послушаться, призвала на помощь Господа, не понимая, насколько стесняет ее сына клеймо «душевнобольного». Для нее важно было одно: сын должен искупить свою вину. Он вырвался от нее, стал драться ногами, бесноваться, искусал себе руки. Его еле утихомирили.
Пастор Шалл неумолимо смотрел на юношу. Он был опытен в такого рода делах, так как в свое время занимал пост управляющего центральными тюрьмами. Маленький революционер показался ему уязвимым: «…Беззащитный, как яйцо без скорлупы», — оценил он Германа и потребовал, чтобы тот как можно скорее написал отцу и попросил прощения. Юноша послушался. Роняя слезы умиления, он отправил письмо с извинением, на которое Иоганнес тотчас ответил: «Мне необходимо тебе сказать, что я очень рад, что ты наконец изменил свой тон!» Штеттенский пастор пообещал, что его новый подопечный не будет чувствовать себя под замком: он сможет читать, возиться в саду, заниматься латынью, видеть друзей. Герман прислушался. Друзей? Он вновь увидит Евгению? Этот вопрос гложет его изнутри, но пока он только принимает микстуры и укладывается спать в дортуаре с железными решетками на окнах. Ночью он пишет первый из двадцати трех сонетов, посвященных той, которая несколько недель спустя, 20 июля, отправит ему откровенное письмо:
«Дорогой господин Гессе,
поверьте мне, первая любовь никогда не бывает удачной. Я прошу вас от всего сердца, позаботьтесь о себе, проявите мужество. Ну что это такое — захотеть вдруг безвольно лишить себя жизни? Извините меня. Мои слова могут вам показаться суровыми, но я уверена в том, что говорю. Пожалуйста, прошу вас от всего сердца».
По-матерински и неосторожно она заключает:
«Приходите к нам так часто, как пожелаете, и приносите свои стихи, хорошо? — и в постскриптуме добавляет: Мы скоро выпьем за нашу дружбу».
С тех пор у влюбленного в голове одна мысль: посещать лицей, как ему предложил отец, но не любой, а тот, новый, в Каннштате, который его приблизил бы к Евгении. пока он возится в саду. Едва успокоившись белладонной и прочистив желудок, он, надев соломенную шляпу, бежит из палат, где висит запах камфоры. «Большую часть времени я работаю в саду, отбираю семена, поливаю, полю, окучиваю». Все это он делает превосходно, природа дает ему отдых. Порочное желание, прячущееся в тайнике души, настолько заставляет его собрать свои силы, что пастор Шалл, потрясенный быстрыми метаморфозами, пишет 5 августа Иоганнесу: «Мальчик может уезжать. Теперь он совсем поправился».
Едва оказавшись дома, Герман начинает брыкаться. Отец, так желавший его увидеть погруженным в теологические изыскания, вновь пускается в поучения. Он разочарован в сыне. Считаться душевнобольным — не значит ли это быть потерянным для Господа? Раньше между отцом и сыном существовало молчаливое согласие. Их связывала естественная симпатия — оба утонченные и нервные, похожие друг на друга высоким ростом и худобой и, кроме того, оба страдающие маниакально-депрессивным психозом, желчные, своенравные, они легко переходили от черной меланхолии к бурному возбуждению. Несколько недель назад Иоганнес сказал Герману: «Я измучен такой жизнью, как твоя, и, как ты, болезненно ощущаю несоответствие идеала и реальности». Герман более походил на отца, чем все его братья и сестры. И, быть может, восхищался им больше, чем они. Каждый раз ждал он момента молитвы, когда звучный отцовский голос взывал ко Всевышнему: «Пребудь с нами, Господи!» К этой молитве он присоединял свою: твердую, горячую, почти свободную. Он любил этого человека, способного рассказать на древнееврейском про Золотого тельца и явиться своему сыну мечущим молнии Моисеем, восстающим со страниц древнего текста. Но Иоганнес воплощал Принцип, ненавистный Принцип. И Герман не мог простить отца за внушенный ему с детства страх: страх греха, наказания, мук совести, страх перед непредсказуемостью собственной души…
Дом в Кальве стал для всех адом. Мальчик хочет сорвать черепицу с его кровли, разбить окна, он рычит и воет, словно волк на луну, от безысходности своего положения. «Он немного склонил голову, — записывает старик Гундерт, — но теперь зубоскалит, и самым наглым образом!» Ему говорят, что он ведет себя, как сумасшедший, и он отвечает нахально: «…Тот, кто говорит, что я сумасшедший, сам сумасшедший». По отношению к Марии он то яростный, то ревнивый, следит, когда она приходит и уходит, всегда смиренная. Он разглядывает ее юбку, натянутую на длинные прямые ноги, обручальное кольцо на руке, погружающейся в зерно или сахар. Отец, воспринимаемый им порой как брат, его проклял, в матери он ищет образ возлюбленной. И Мария жалеет своего сына, «чрезмерно возбудимого и раздражимого, упирающегося и бранящегося, который хочет гулять исключительно в одиночестве, жалуется, что скучает, и не делает ничего из того, что просит отец или предписывает врач». В конце концов Иоганнес решает вновь отправить его в Штеттен.