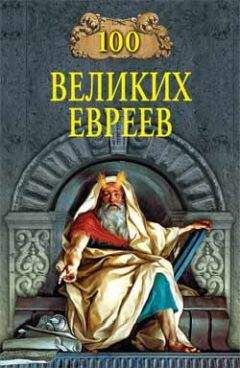Поправившись немного, Лессинг взялся за труд с новою энергией и принялся обрабатывать давно задуманную им трагедию «Эмилия Галотти», издал один том собрания «Разных сочинений» и, пользуясь сокровищами Вольфенбюттельской библиотеки, принялся издавать свои сообщения «По литературе и истории», в которых впервые выступил с рационалистическими богословскими воззрениями, вынудившими его начать жаркую полемику с ортодоксальным лютеранским богословием.
За этим новым периодом деятельности наступила новая реакция. «Мне вся жизнь так противна, так противна, – пишет он Еве Кёниг. – Я не живу, а сплю наяву. Упорная работа, утомляющая донельзя и не доставляющая удовольствия, полное отсутствие общества, перспектива вечного милого одиночества – все эти вещи до того вредно влияют на мое тело, что я не знаю, болен ли я или здоров». В 1773 году мучительное ожидание, которому его подвергла Ева Кёниг, в связи с прочими обстоятельствами, довело Лессинга до полного отчаяния, и он имел право сказать: «Я вижу свою гибель, но покорился этому».
Два года спустя Лессинг решился предпринять путешествие, частью, чтобы рассеяться, – но главным образом потому, что разлука с Евою Кёниг стала для него невыносимою. В Вене они встретились, и Лессинг убедил наконец Еву обещать ему, что брак их состоится в следующем году. Последние препятствия были устранены, так как г-жа Кёниг устроила свои дела и имела 500 талеров в год, – но она все еще медлила.
В Вене Лессинг имел случай беседовать с императрицей Марией Терезией. Упоминаем об этом лишь потому, что Мария Терезия гораздо лучше умела оценить Лессинга, чем его любимец, прусский король Фридрих. Здесь же, в Вене, Лессинг встретил одного из брауншвейгских принцев, который предложил Лессингу ехать с ним в Италию. Давно желанная поездка состоялась, но принц оказался крайне бестолковым туристом и ездил взад и вперед, почти нигде не останавливаясь. Вместо пользы Лессинг вынес из этой поездки только тревогу за свою невесту, от которой не получал писем, так как ее венские знакомые удерживали эти письма. Возвратившись в Брауншвейг, Лессинг за поездку с принцем получил прибавку жалованья и титул гофрата. Последнее так сконфузило Лессинга, что, сообщая об этом своей невесте, он даже извинялся перед нею…
Наконец, после шестилетнего ожидания заветная мечта Лессинга сбылась, и 8 октября 1776 года он обвенчался с Евою Кёниг, у которой от первого брака было четверо детей. Семейная жизнь Лессинга была чрезвычайно счастлива.
Он совершенно ожил и переродился. Спокойная мягкая натура Евы действовала на него освежающим и примиряющим образом. Один молодой магистр, посетивший Лессинга в 1777 году, описывает семейную обстановку великого писателя самыми увлекательными красками. «Лессинг, – говорит он, – величайший друг человечества, деятельнейший покровитель, лучший и снисходительнейший руководитель. С ним так легко быть запросто, что забываешь, с каким великим человеком имеешь дело. Но если можно найти еще более любви к людям, еще более благосклонности и готовности помочь, – так это у его жены. Другой подобной женщины я не надеюсь встретить».
Но в конце того же 1777 года кратковременное счастье Лессинга было нарушено…
Прежде чем обратиться к этому новому поворотному пункту в его жизни, необходимо бросить взгляд на литературную деятельность Лессинга со времени оставления им Гамбурга. Крупнейшим произведением этого периода является его «Эмилия Галотти», пьеса, имеющая еще большее значение в истории драмы, чем «Минна фон Барнхельм». То, что в «Минне» сделано Лессингом для немецкой национальной «комедии нравов», в «Эмилии Галотти» приняло более универсальный характер. Это произведение дало толчок не одной только немецкой трагедии, но имело более широкое значение, являясь посредствующим звеном между сентиментальными трагедиями и имеющими всемирное значение трагедиями Шиллера. Огромное влияние «Эмилии» на ранний период деятельности Шиллера вполне установлено немецкою критикой.
«Эмилия Галотти» была задумана Лессингом весьма рано, еще в 1758 году, то есть раньше появления «Минны фон Барнхельм». Еще тогда он писал Николаи, что придумал «мещанскую Виргинию» под именем «Эмилии Галотти», в которой исключит всякий политический элемент, считая достаточно трагичною саму судьбу девушки, убитой отцом, которому добродетель дочери дороже ее жизни. Сначала трагедия состояла лишь из трех актов; в Гамбурге Лессинг развил ее в пятиактную; но окончательную обработку дал ей только в Вольфенбюттеле (в 1772 году). Последним актом Лессинг все еще был недоволен и незадолго до первого представления хотел взять трагедию назад и не давал конца, но директор театра заставил его отказаться от этого решения, угрожая, что сам приделает конец. Герцог дозволил представление трагедии, хотя некоторые из придворных намекали, что Эмилия списана будто бы с любовницы герцога, маркизы Бранкони.
«Эмилия Галотти» представляет наилучший пример того, каким образом Лессинг проводил на практике свои теоретические положения, развитые в «Гамбургской драматургии». Мы видели, что Лессинг, следуя Аристотелю, требует, чтобы в трагедии никакое страдание не являлось без всякой вины страждущего. Лессинг считает, например, непригодным для трагических сюжетов большую часть событий из жизни христианских мучеников. Трагедия является лишь там, где страдание составляет последствие нарушения нравственного закона. При таком воззрении неудивительно, что Лессинг бросил уже начатую им трагедию «Виргиния». История Виргинии известна: деспот-децемвир влюбляется в невинную девушку; клиент, по наущению децемвира, добивается, чтобы суд признал Виргинию его рабыней; суд постановляет решение в пользу клиента, и девушка должна стать, через его посредство, жертвою децемвира; отец девушки, чтобы спасти честь дочери, убивает ее ножом посреди рынка. С точки зрения Лессинга, этот сюжет неудобен для трагедии, потому что Виргиния погибает без малейшей собственной вины и отец убивает ее также из крайности, не имея другого исхода, стало быть, – опять-таки нимало не виновен. Чтобы превратить этот эпизод в трагедию, пришлось бы изменить его настолько, что он мог утратить свой римский колорит. Не справившись с этой задачей, Лессинг предпочел взять новейшую эпоху, в которой он мог свободнее распоряжаться страстями и поступками действующих лиц. Отсюда и возникла Эмилия Галотти, к которой вполне применимы слова Лессинга в его «Драматургии»: «Человек может быть очень хорошим и все же иметь более одной слабости, совершить более одной ошибки, чем он ввергнет себя в невообразимые бедствия, внушающие нам сострадание и жалость (Wehmut), но нисколько не ужасные, потому что они являются естественными последствиями проступка». И действительно, в «Эмилии Галотти» нет безусловно правых и безусловно виноватых, нет ни отъявленных чудовищ, ни ангелов, хотя живописец Конти в разговоре с принцем и называет Эмилию ангелом. Принц – сластолюбивый, развращенный с ранней юности человек, конечно, часто действует на нас крайне отталкивающим образом, но это не один из тех извергов, каких мы встречаем, например, у Корнеля. В нем есть человеческие чувства, – но они подавляются при столкновении с овладевшею им страстью. Две главные черты характеризуют принца: влюбчивость и полнейшее отсутствие силы воли. Даже когда он действует энергично, эта мнимая энергия оказывается просто стремительностью, доходящей до безрассудства и зависящей не от глубины и силы его чувства, в котором первое место играет просто похоть, а единственно – от слабости воли. Характер принца выдержан превосходно. Уже в самом начале он подписывает прошение только потому, что имя просительницы – Эмилия – такое же, как у пленившей его девушки. Когда живописец приносит портрет его прежней любовницы-графини вместе с портретом Эмилии, принц не только не владеет собою, но говорит бестактности. Является Маринелли – тип подленького придворного, – называет Эмилию, говорит, что она выходит замуж; принц, конечно, выдает себя и тут же позволяет Маринелли делать самые грязные намеки и предложения. Приходит чиновник и приносит принцу для подписи бумагу.