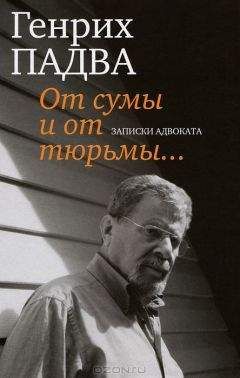В Погорелом было очень много неудобств, точнее, отсутствовали многие удобства, привычные тогдашнему столичному жителю и тем более нынешнему современному человеку. За время жизни там я сменил две квартиры, а на самом деле — два закутка в деревенских избах.
В первой избе я жил за загородкой в одной комнате с хозяевами-стариками. Внешняя стена моего закутка была одновременно и стеной скотного двора, так что я слышал, как дышит корова, хрюкают и чавкают свиньи, возятся куры на насесте. Уборная с выгребной ямой была у нас тоже на этом скотном дворе, дверь в него вела прямо из комнаты, которую я снимал у хозяев.
Хотя аромат, тянувшийся со скотного двора, был не слишком приятен, зато прямо под моим окном пели соловьи. Я услыхал их тогда впервые в жизни, а раньше себе это пение представлял иначе. То есть я совершенно серьезно думал, что они именно поют — ну, как поют великие певцы, наверное: если не басом и баритоном, то какой-нибудь колоратурой. А они в основном щелкали — и я был даже немножко разочарован! Но уже вскоре я ощутил всю прелесть этого доносившегося из кустов пения.
Электричество в поселке было местное — от движка. Этот движок давал неяркий мигающий свет в лампочках, а часто, когда запивал дядя Вася, работавший на этой «электростанции», света вообще не было. Так что дядю Васю старались как можно быстрее привести в чувство.
Посреди площади Погорелого Городища на столбе висел громкоговоритель. Помню, как к нам в командировку приехала одна адвокатесса (когда были групповые дела, я не мог работать один с несколькими подзащитными, и к нам выезжал какой-нибудь адвокат из другого района), и мы с ней шли по улице поздно вечером, а из репродуктора вдруг полились звуки фортепьянной пьесы из альбома «Времена года» Чайковского. Это было совершенно восхитительно. Представляете: мы шлепаем по грязи, моросит дождь, промозгло и слякотно, а сверху, сквозь шипенье и хрипы динамика, доносится музыка — «У камелька».
Живьем фортепьянную музыку, конечно же, в Погорелом мне слушать не приходилось. В клубе и на вокзале танцевали под гармошку. Вокзальные танцы были весьма экзотичными. Станция представляла собой деревянную платформу с деревянным же домиком, где располагались железнодорожная администрация и зал с буфетной стойкой для пассажиров. В углу этого зала стоял бачок с водой, к кранику которого была цепочкой приторочена металлическая кружка. С потолка свисали электрическая лампочка, засиженная сплошняком мухами, и «липучки», на которых покоились трупики мух и жужжали недавно прилипшие насекомые.
Танцы устраивались в этом зале, а летом — прямо на платформе, которая была освещена несколько лучше, чем зал. Помимо танцев, привлекал молодежь на станцию особый ритуал: мы часто ходили на железнодорожную станцию встречать и провожать поезд.
Скорый поезд Москва-Рига проходил, не останавливаясь, через станцию Погорелое поздно вечером. Меня всегда волновало его появление. Он возникал из-за поворота слева. Вначале появлялся свет его прожекторов, потом слышалось постукивание колес о стыки рельсов, и затем уже вырывался из леса локомотив с длинной вереницей сверкающих огнями вагонов — эдакий левиафан. Этот поезд проносился мимо нас, и мы завороженно смотрели в его окна, в которых пролетала перед нами, как нам казалось, блистательная и счастливая жизнь. Мы же оставались на грязной деревянной платформе, в грязных сапогах, вдалеке от света и блеска цивилизации. Возвращаться со станции нам предстояло примерно полтора километра по непролазной грязи.
Грязь в Погорелом, конечно, была не круглый год — зимой нас засыпало снегом. И я хорошо помню, как в марте, на Масленицу, судейские решили прокатиться на санях. При местном суде была лошадь, мало напоминавшая арабских скакунов, но исправно тянувшая летом телегу, а зимой — сани. Меня тоже вовлекли в затею с катанием и даже разрешили попробовать свои кучерские способности. Управлять лошадью до этих пор мне никогда не приходилось, но казалось очень простым делом. Кончилось же это все, само собой, тем, что я вывалил всех в снег. С визгом и хохотом вся компания выбиралась из сугроба.
Уехал я из родительского дома в Калининскую область с малюсеньким, чуть большим, чем портфель, чемоданчиком. Помнится, что лежали в нем три-четыре пары трусов, несколько пар носков, пара брюк, сколько-то рубашек, ну, и туалетные принадлежности: бритвенный прибор, мыло, зубные порошок и щетка. Вряд ли была какая-нибудь обувка помимо той, что на ногах.
Одет я был в перелицованный из отцовского пиджачок и пальтишко. Была еще и кепочка. Зимних вещей с собой не было, как почти совсем не было и денег. Получать зарплату я начал с первого же месяца стажировки в Ржеве. Составляла она 350 рублей — примерно столько платили стипендию в институте. Прожить на эти деньги было невозможно, едва хватало на оплату жилья. Спасали командировки: суточные иной раз доходили до 200 рублей в месяц, и это было серьезным подспорьем.
Когда я начал самостоятельно работать в Погорелом Городище, мои доходы несколько возросли. И я смог себе позволить приобрести кое-что из самого необходимого — а за полгода стажировки я поизносился изрядно! Вот я и купил себе новые трусы, носки и даже пару полуботинок. Теперь такие не сыщешь ни на барахолке, ни в музее. Это были белые парусиновые полуботинки, которые чистили не ваксой, а зубным порошком. Зубной порошок осыпался с парусины, оставляя белые следы на полу.
Замечательная обнова — мечта пижона!
Несмотря на столь значительные приобретения, в момент моего романтического знакомства с будущей женой я поразил ее внушительного размера заплатой на брюках, которую она увидела, когда я невзначай повернулся к ней, pardon, задом. Увы, на брюки я еще не заработал, а ведь к этому времени уже работал в Торжке, где получал побольше, чем в Погорелом (скажу, впрочем, что на исходе полутора лет моего пребывания там я в последний перед переездом месяц не заработал вообще ни рубля).
И все же это был прекрасный период — время познания жизни, общения с людьми, с природой, время становления профессионала, обретения самостоятельности, осмысления своего места в жизни и ощущения радости бытия и работы. Благословенно время молодости и познания мира!
У всех в Погорелом Городище были огороды, все держали коров, свиней, кур, кроликов — их разводили по причине плодовитости и неприхотливости: жуют себе свою травку и дают отличное мясо. Я состоял у своих хозяек (сначала у одной, потом у другой) на полном коште: я платил за кров, а они меня поили и кормили. Мне делали винегреты, варили или жарили картошку — все со своего огорода, кормили сметаной и поили молоком от своей коровы… Кроме того, были домашние яйца, время от времени резали петуха, раз в год — поросенка. В общем, в избытке была простая, немудрящая пища.