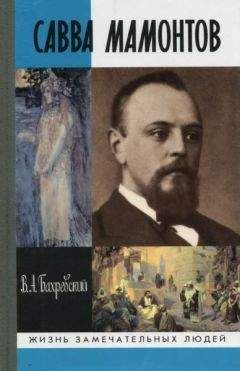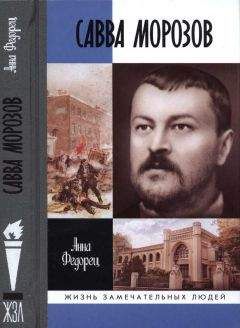«15 октября в 1 час ночи родился Всеволод, — записала в „Дневнике“ Елизавета Григорьевна. — Родился с большой головой».
Крестили младенца 20 октября. Восприемниками были бабушка Вера Владимировна и Федор Иванович.
Три ребенка — три сына.
— САВ уже получилось, — целовал Савва Иванович свою милую супругу, — осталось ВА.
— ВА будут девочками, — пообещала Елизавета Григорьевна.
6
Сохранилась «Подорожная» Мамонтова. «По указу его величества государя императора Александра Николаевича самодержца Всероссийского и прочая, прочая, прочая от г. Ярославля до г. Вологды и обратно кандидату Правления Московско-Ярославской железной дороги Савве Ивановичу Мамонтову давать по две лошади с проводником. Дана в Ярославле 1871 г. 29 мая. 373 версты».
Рабочая поездка по делам дороги, нерасторопность управляющего Ефима Максимовича задержали переезд в Абрамцево. Перебрались на летнее житье только 12 июня.
Елизавета Григорьевна не могла нарадоваться на сад.
Волшебник Михаил Иванович так искусно пересадил деревья, что они цвели и обещали дать первый урожай новым хозяевам.
Савва подумывал устроить певческий концерт, пригласил своего гимназического товарища Петра Анатольевича Спиро, который был в то время студентом Медицинской академии, но о пении пришлось забыть.
Сидели за вечерним чаем, когда пришел Ефим Максимович.
— Дозвольте сделать сообщение, — сказал он, не поднимая глаз на Савву Ивановича.
Савва был на него сердит: строительство кухонного дома затягивалось, управляющий нанял каких-то стариков, которые то в монастырь ходили молиться, то впадали в запой. Жена Ефима Максимовича сегодня дважды надерзила Елизавете Григорьевне, и было ясно, что с камердинером Аксакова придется распрощаться.
— Извините, господа, — сказал Ефим Максимович, смущенный наступившей тишиной. — В Глебове три семейства умерли. Холера, господа.
Первый воин с холерой — чистота, Елизавета Григорьевна сама следила за порядком на кухне и в доме.
Пригласили опытного фельдшера. Он ездил по деревням, и с ним Петр Анатольевич Спиро.
Страшная холера разразилась в селе Васильевском, умирало по нескольку человек в день.
И вдруг — жар и кровавый понос открылся у самого младшего, у Воки, так прозвали крошечку Всеволода. Пока ездили за врачом, заболел Дрюша, еще через три дня слег старший — Сережа.
Врач отверг опасения — это не холера, но не обрадовал — дизентерия. Весь мир сошелся для Елизаветы Григорьевны на больных детях.
Вока первый слег, первый и поправился.
Тяжелее всего перенес изнуряющую болезнь Дрюша. Его выхаживали три недели, и все же не уберегли. Дизентерия дала осложнение на почки. Воспаление почек Дрюша перенес зимой, и вот новая страшная атака на ослабленный организм.
Ему предложили любимую игру: копилку и пятаки. Он так любил, посапывая, впихивать тяжелые пятаки в узковатую щель, но теперь руки его не слушались, и он не плакал от бессилия, а молча ронял из глаз слезы. Елизавета Григорьевна ужаснулась. Она ложилась к Дрюше и грела его телом своим. Совершенно отказалась от пищи, и врач потребовал, чтобы она не запускала своего собственного здоровья.
Слова молитв не шли на ум. Елизавета Григорьевна только смотрела на иконы Богородицы, Николая-угодника, Андрея Первозванного, покровителя Дрюши, — и молила о спасении сына — безмолвно, бессловесно.
Не зная, что еще можно сделать для милого ребенка своего, кого еще просить, кроме Господа, каким иконам кланяться, пошла днем, словно бы подышать воздухом, и отойдя за деревья, хотела отбить многие тысячи поклонов, но перекрестилась и стояла, как дерево, неподвижно: не плача, не думая ни о чем, не страдая, словно перестала быть одушевленной материей. Она вернулась домой, предчувствуя ужасное, но не соглашаясь на слово смерть.
Пришла ночь. Врач не отходил от Дрюши, и Елизавета Григорьевна тоже не желала хоть на мгновение оставить сына, словно дышала за него.
Вера Владимировна силой увела ее из спальни ребенка, уложила в постель.
— Тебе надо немного поспать, — сказал ей Савва Иванович. — Дрюше нужны твои силы, а они на исходе. Подкрепись ради него.
Она согласилась и заснула. Увидела себя на высокой горе. Сделала шаг от обрыва, но оступилась и стремительно покатилась с горы в холодный, слепящий белизною снег.
Она поднялась с постели, вся еще в сне своем, в снегу… Побежала к детской, но у двери запнулась, с ужасом глядя на медную ручку. Отворила.
— Котя, котя на печи, ты не очень лопочи! — говорил Дрюша, сидя в постели со своей любимой книжкой про бедную старушку и очень избалованного пса.
Выздоровление шло медленно, с отступлениями. Как перевозить больного в Москву, даже врачи не знали. Малейший ветерок мог быть губительным, вагонная тряска — смертельна.
Савва Иванович срочно поправил дорогу до станции, решились везти Дрюшу в карете. Дождались хорошей погоды и 25 сентября поехали. Шестьдесят километров шагом с постанывающим сыном — это была мука-мученическая, а в Москве опять начались отеки. Дом на Спасской стал похож на больницу, только жизни в белом свете не убыло.
Появился новый знакомый, художник Иван Александрович Астафьев. Савва Иванович заказал ему сделать копию с портрета матери. Иван Александрович работал по старинке, медленно, но основательно.
Оказалось, что он близко знал Белинского, свет неистового Виссариона невольно ложился на Ивана Александровича, человека не бесталанного, но робкого. Работал Иван Александрович в гостиной и невольно входил в семейные заботы Мамонтовых. С прежней гувернанткой пришлось расстаться, уж очень она оказалась мягкой, исполняла все капризы Сережи. Астафьев порекомендовал в воспитательницы Александру Антиповну Годеман, она была молода, начитана, приветлива. Сереже новая воспитательница понравилась, он повзрослел и не пытался взять над нею власть.
Стал бывать в доме художник Николай Васильевич Неврев. Высокий, худощавый, с черными щеточками бровей. Он удивлял своим громадным басом, неизвестно как помещавшимся в таком узком, без выпуклостей, теле.
Савву Ивановича Бог наделил даром влюбчивости. Он боготворил отца, Чижова, теперь его идолом для восторгов стал архитектор Гартман.
Гартман побывал в Италии, подружился в Риме с молодым скульптором Антокольским, новой знаменитостью, потрясшей просвещенный мир своим восхождением из студентов в академики. Восторги Гартмана были так искренни, так переплетались в его рассказах три гения: Антокольский — Рим — природа, что нельзя было не заразиться его восхищением.