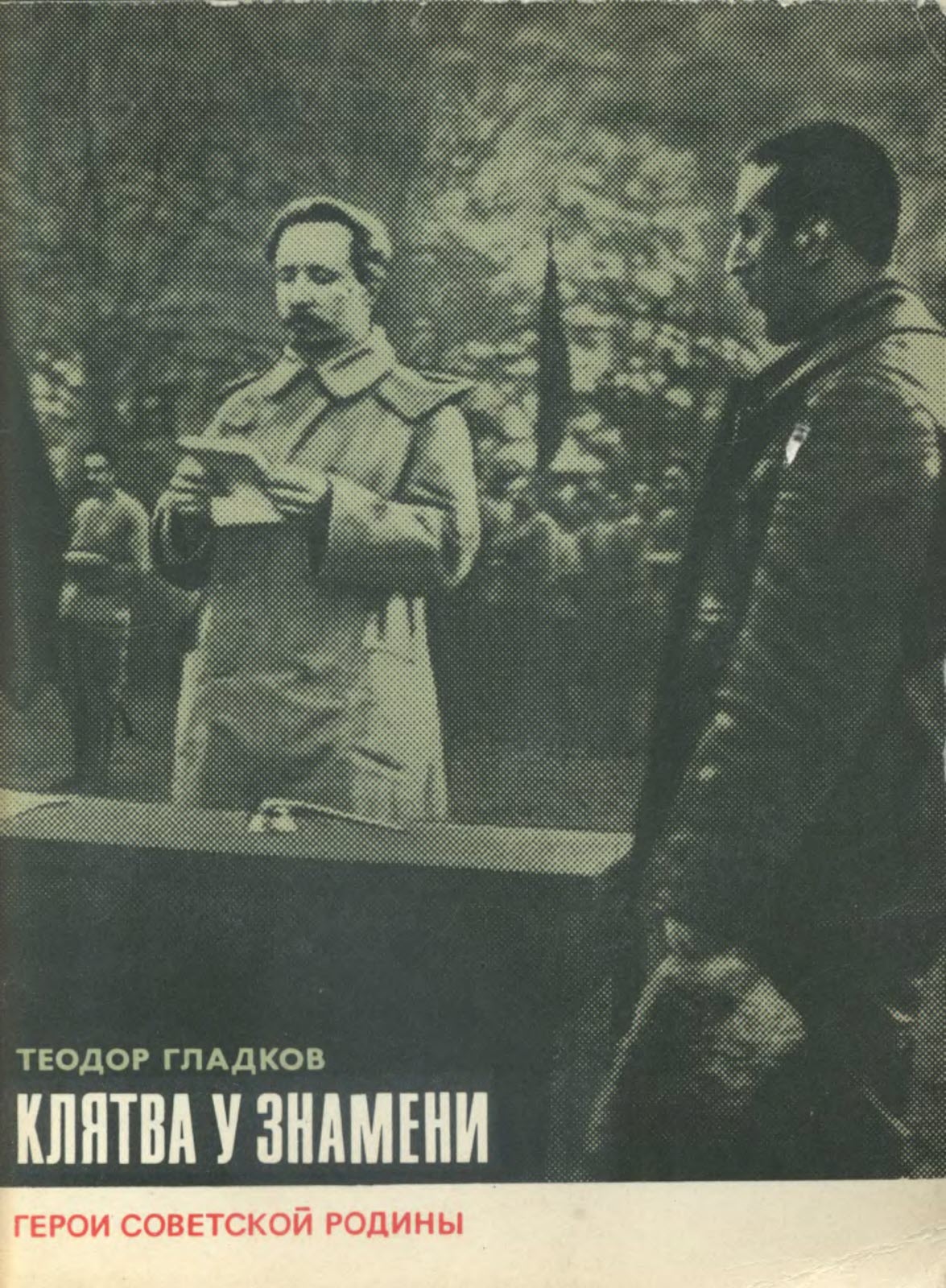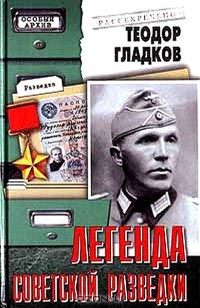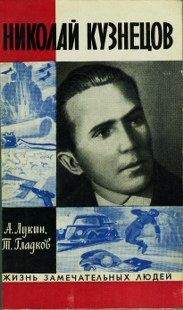что доблестные войска этой дивизии сокрушат наглого врага и создадут боевую славу своим революционным знаменам».
11 сентября приказом РВС республики был образован Южный фронт, объединивший советские войска на брянском, курском, воронежском, поворинском, балашово-камышинском участках, части Северо-Кавказского военного округа и Астраханской группы. В октябре войска Южного фронта были сведены в пять армий: 8, 9, 10, 11 и 12-ю. Дивизия В. Киквидзе, получившая по новой единой нумерации наименование 16-й стрелковой, вошла в состав 9-й армии, сформированной из частей поворинского и балашовского направлений. Командармом-9 был назначен Александр Егоров — будущий Маршал Советского Союза.
Несмотря на потери в боях, 16-я стрелковая дивизия непрестанно росла как за счет пополнений, прибывающих из армии, так и за счет местного населения.
При отходе на Елань дивизии встретился отряд Куропаткина, созданный из бедных казаков и крестьян одной из станиц. Его объединили с другим отрядом, примерно тогда же примкнувшим к киквидзевцам — Коннолетучим имени Степана Разина, тоже из красных казаков. В результате возникла новая воинская часть — 3-й казачий революционный полк.
На базе партизанского отряда крестьян деревень Семеновки, Мачехи и Тростянки был сформирован еще один пехотный полк — Преображенский.
Однажды к домику, где размещался штаб дивизии, пришел седой как лунь казак лет семидесяти. Старик попросил часового пропустить его до самого «Васидорыча». (Киквидзе не любил, чтобы к нему обращались «товарищ начдив», потому бойцы, а вслед за ними и местные жители называли его чаще «товарищ Киквидзе» или обращались по имени-отчеству. Киквидзе, правда, тоже, обращаясь к кому-либо, чаще всего говорил не «товарищ боец», а свое неподражаемое «душа любезный», которое запомнили на долгие годы.)
Киквидзе случайно в это время вышел на крыльцо и спросил деда, что ему надо. Казак, вытянувшись во фрунт, бодро заявил, что желает вступить добровольцем в Красную Армию.
Киквидзе рассмеялся:
— Ну куда вам служить, папаша. Вы же, наверное, забыли, как оружие в руках держать.
Дед побагровел от обиды, но ничего не сказал, повернулся и ушел. Однако ненадолго. Минут через пятнадцать он вернулся, уже верхом на коне, при карабине и шашке. Воинственно потребовал снова вызвать к нему начдива. Когда Киквидзе вышел, старик ядовитым током предложил произвести ему «полную инспекцию». Посмеиваясь про себя, Василий Исидорович согласился. Тем временем на улице успела собраться целая толпа любопытствующих, и красноармейцев и местных. Слышались шутки, смех, подзадоривания. Старик держался невозмутимо. Серьезный вид старался сохранить и Киквидзе.
Срезав своей шашкой лозину, он воткнул ее поглубже в землю, сверху водрузил свою шапку.
— А ну, папаша, душа любезный, руби!
Дед развернул коня, отъехал шагов на пятьдесят, выхватил шашку и вихрем помчался к лозе. Сверкнул на солнце клинок — шапка упала на срубок. Все восторженно зашумели:
— Молодец, дед!
Киквидзе тоже был в восторге, но «инспекцию» решил провести до конца, понял, что лучшего агитатора за Красную Армию, чем этот старик, ему не сыскать. С деланной строгостью произнес:
— Так, рубить не разучился. Посмотрим теперь, как стреляешь.
Дед сдернул с головы казачью фуражку с выцветшим от солнца и времени верхом, протянул Киквидзе:
— Бросай!
И снова разогнал коня. Василий Исидорович высоко подбросил фуражку — тут же грянул выстрел. Подняв фуражку, Киквидзе долго цокал языком в изумлении: стреляя навскидку на полном: скаку, старый казак пробил ее пулей почти в середине.
Начдив обнял деда, извинился за обиду, поблагодарил за службу и торжественно при всем народе приказал немедленно зачислить добровольца по его собственной просьбе не куда-нибудь, а в эскадрон разведчиков.
В один из последних теплых дней судьба свела Киквидзе с человеком, о котором до сих пор народ поет песни.
Выйдя как-то из штаба дивизии, Кирилл Еремин увидел статного молодого парня с пышной шевелюрой, выбивающейся из-под фуражки, одетого в черный матросский бушлат. Привязав лошадь к коновязи, парень торопливой скороговоркой спросил Еремина:
— Начдив у себя? — Получив утвердительный ответ, он стремительно проскочил на крыльцо и в дверь. Дежурный по штабу только развел в растерянности руками.
— Ишь какой, — он секунду подбирал подходящее слово, — глазастый!
Действительно, у посетителя были огромные синие глаза, производившие в сочетании с мужественным обликом необычайно сильное впечатление.
Так появился в Елани балтийский матрос Анатолий Железняков, легендарный Железняк, тот самый, что разогнал Учредительное собрание. Анатолий прибыл с группой балтийских матросов и двумя броневиками. Его назначили командиром приданного 16-й дивизии Еланского полка, который держал оборону на стыке с 1-й Особой Украинской бригадой, которой командовал Рудольф Сиверс.
Киквидзе и Железняков быстро стали друзьями. Вместе с третьим храбрецом — Доценко — они любили ворваться на броневиках в расположение белоказаков, разгромить какой-нибудь штаб или узел связи, уничтожить пулеметным огнем вражеский разъезд и, прихватив «языка», вернуться к своим.
Красноармейцы, завидев три броневика, ползущие к фронту, говорили:
— Святая троица в дело собралась! Считать белякам мертвяков.
Однажды Киквидзе, Железняков и Доценко врезались в колонну казачьей конницы и расстреляли ее из пулеметов. Трупы людей и лошадей завалили дорогу. Выбраться назад, казалось, невозможно. Между тем на помощь белым спешили казачьи пластуны. Дело могло бы кончиться худо, если бы не выручила рота китайских добровольцев из Интернационального полка.
Медведовский, человек большого военного опыта и выдержки, любил Киквидзе, но отлично видел его недостатки: самолюбие, порой излишне обостренное, чрезвычайную вспыльчивость в отношениях с вышестоящими начальниками, что иногда превращало пустяковые вопросы в неразрешимые проблемы и давало поводы обвинять начдива в недисциплинированности, склонности к своеволию и неоправданному риску. В свою очередь Киквидзе чрезвычайно уважал и любил своего помощника, с которым к тому же они стали волею военной судьбы кровными побратимами: как-то были ранены одной и той же пулей. Все это дало право Медведовскому после случая, когда интернационалисты чудом спасли Киквидзе, Железнякова и Доценко, наедине поговорить с Васо по душам.
Тот вскочил, гневно закричал о своей обязанности быть примером для бойцов, шумел. Потом неожиданно угомонился, согласился со всеми доводами заместителя и обещал ему впредь не рисковать.
По мере сил Васо старался сдерживать свои порывы и обещание, но однажды все-таки его нарушил.
В бою за деревню Семеновку Киквидзе дважды ранило — в голову и ногу. Медведовский силой заставил его покинуть позицию, увез в деревню Мачеху, где и уложил в полевой лазарет. Вдруг поступило донесение, что близ хутора Завязинского красновцы прорвались в тыл, захватили батарею и пытаются вывезти ее в свое расположение. Этого Киквидзе стерпеть не мог. Кое-как натянув галифе, не обращая внимания на крики сестры милосердия, пытавшейся ему помешать, он выбежал (так ему казалось, на самом деле допрыгал на одной ноге) на улицу и через минуту уже мчался