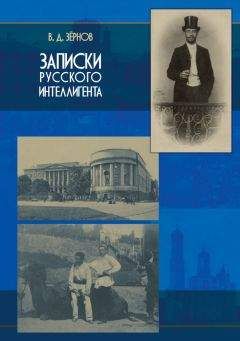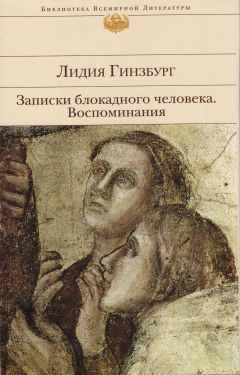Елеонский был высокообразованным, умным человеком, и малопонятно, как он соглашался с тем, что, собственно, никто лекций его не посещал, а если кто и заходил, то вовсе не для того, чтобы слушать, а исключительно для занятий собственными делами. Николай Алексеевич читал по рукописи, держа её близко перед глазами, так как был сильно близорук, и совершенно не интересовался, слушает его кто-нибудь или нет. Младший служитель инспекции – «педель» должен был отмечать присутствующих на лекции, но относился к этому весьма своеобразно. Когда он долго не получал «на чай», то подходил ко мне и говорил: «Владимир Дмитриевич, я вас сегодня на лекции по богословию записал», – за что и получал двугривенный.
Первые экзамены
Занимались мы вдвоём с Полозовым. Учиться было легко. В осеннем семестре ничем, что имеет хоть какое-нибудь отношение к университетской учёбе, мы дома не занимались. Мы лишь ходили слушать лекции, по математике – записывали, хотя этого можно было и не делать, так как все курсы издавались компанией студентов литографским способом, а теория детерминантов – даже типографским. В таких условиях приготовиться к зачёту было не трудно. Мы начали усиленно заниматься только в весеннем полугодии, с приближением экзаменов.
Готовились мы к экзаменам в пустой квартире в Шереметевском переулке, куда наша семья окончательно переехала летом 1898 года и где прожила до лета 1907 года. Приготовились мы довольно прилично. Только на письменном экзамене по высшей алгебре у меня чуть было не получилась неприятность. Надо было составлять какие-то комбинации из коэффициентов в великом множестве. Но в частных случаях дело упрощается, и об этом можно догадаться, исследуя уравнение.
Млодзеевский, придя в аудиторию на экзамен, сделал вид, будто здесь, на месте, придумывает задачу. Взял кусок мела и, сказав: «Ну, хотя бы так», – написал на доске условие. Конечно, задача была придумана им заранее. Я сейчас же принялся составлять комбинации, исписал уже порядочно бумаги. И тут Рафаил Соловьёв, наш гимназический товарищ, сильный, способный математик, проходя мимо меня с законченной работой и заглянувши ко мне в тетрадь, посоветовал: «Ты так до завтра прорешаешь! Исследуй-ка уравнение – половина корней превращается в нули, а половина имеют одинаковые значения». Я спохватился и, посмотрев, действительно убедился, что вся моя работа сделана напрасно. Дальше я допустил глупость – пожалел свою работу и, отчеркнувши уже написанное, тут же приписал: «вследствие того, что уравнение имеет такие-то особенности, можно убедиться в том…» и так далее. Написал и всё подал Млодзеевскому.
На устном экзамене отвечал я прилично и на вопрос Млодзеевского, почему у меня такая письменная работа, объяснил, как было дело. Я никогда не любил выдумывать и всегда старался говорить именно то, что имело место в действительности. В результате за письменную работу, а заодно и за устный ответ, я получил «удовлетворителъно». Остальные же отметки у меня были «весьма».
По физике меня экзаменовал П. В. Преображенский. Отвечал я на вопрос о колебании маятника. Химию я знал, собственно, плохо, но мне попался очень удачный билет – «бензольное кольцо», и я хорошо отвечал А. Н. Реформатскому.
Экзамен по богословию был совершенной проформой. Елеонский один экзаменовал всех студентов, переходивших на второй курс, а всего на четырех факультетах их было, наверное, не меньше двух тысяч. Экзаменующиеся стояли в очереди, как теперь за продуктами, и каждый прочитывал две-три странички из отпечатанного типографским способом курса. Вопросов Елеонский не задавал, а лишь спрашивал: «Что вы приготовили?». И студент отвечал именно то, что только что, перед тем как зайти в аудиторию на экзамен, прочитал в коридоре. Все без исключения получали «весьма удовлетворительно».
Студенческий оркестр
Я продолжал заниматься у К. А. Кламрота и играл большие и технически трудные вещи. Проходил с Карлом Антоновичем концерты Вьётана, первый второй и четвёртый концерт Бруха. Из пьес играл полонез Венявского, сонату Тартини, Fantaisie Caprice Вьётана и другие. Конечно, я освоил перечисленные произведения не за один 1898 год. Кламрот окончательно уехал из России только в 1900 году, и я до его отъезда брал у него уроки.
В этом 1897/98 году восстановился студенческий оркестр, дирижёром его пригласили А. А. Литвинова – он был скрипачом и играл в первых скрипках в оркестре Большого театра, но переходил на дирижёрскую работу и дирижировал оркестром Общества любителей оркестровой, вокальной и камерной музыки{126}. Я стал играть в обоих этих оркестрах.
В студенческом оркестре я был концертмейстером первых скрипок. Мы сразу начали готовить концертную программу: проходили первую симфонию Бетховена и марш Мендельсона. Мне предстояло играть solo. И впервые – в сопровождении оркестра. Карл Антонович очень интересовался моим выступлением. Он выбрал для этого «Fantaisie Caprice» Вьётана, сам достал партитуру и партии для оркестра. Вещь эта по технике виртуозная, но шла она у меня хорошо, и всё же я сильно волновался.
Концерт проходил в зале Охотничьего клуба – это был прекрасный зал в доме Шереметева на Воздвиженке, теперь там Кремлёвская больница{127}, а прежде помещалась Московская городская дума. Сцена в зале была вполне оборудована – на ней Художественный театр ставил свои первые спектакли: «Потонувший колокол», «Уриэль Акоста», «Бесприданницу». В этом же году Художественный театр выступал в театре Эрмитаж в Каретном ряду{128}. Из первых его постановок я видел в Охотничьем клубе «Потонувший колокол» и «Бесприданницу». «Потонувший колокол» произвёл на меня особенно потрясающее впечатление.
Наш студенческий оркестр давал концерт 5 марта 1898 года. Зал был полон. Сначала шла симфония, затем моё выступление. Сосед по пульту, очень способный скрипач Гриша Гадлевский, видя моё волнение, посоветовал прибегнуть к средству, к которому сам был весьма привержен. Перед концертом он говорит: «Выпей рюмку коньяку, волнение как рукой снимет». Я знал, что после вина слабеют пальцы и рассеивается внимание. Но, по-видимому, всё зависит от количества. И я решился-таки на одну рюмку. Эффект получился замечательный – я совершенно перестал волноваться. Может, это было даже внушение, которое невольно сделал мне Гадлевский. Во всяком случае, когда я вышел и публика встретила меня аплодисментами, что в старые времена вовсе не всегда бывало, мне даже было немножко смешно видеть мою маму, сидевшую в первом ряду красную как маков цвет от волнения. Руки у меня были совершенно нормальны и сухи, и я без всякого волнения сыграл свой трудный номер. Публика мне долго аплодировала, и я исполнил ещё две вещи на bis. Концерт вообще прошёл весьма удачно.